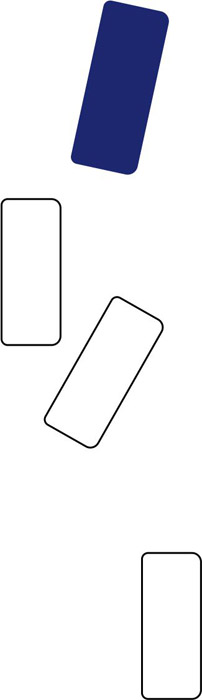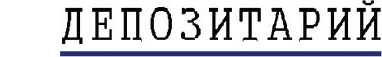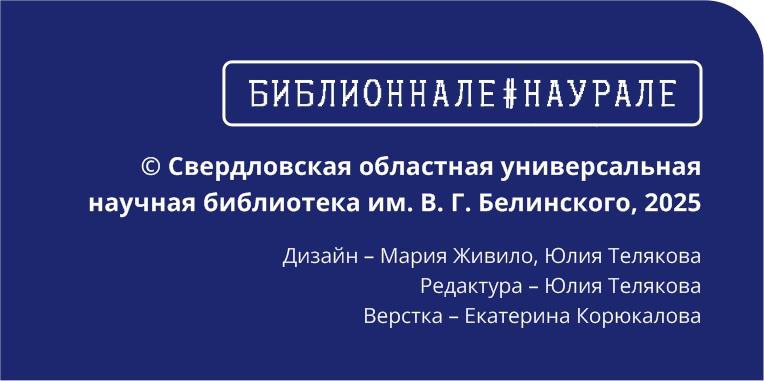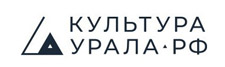По Уралу
БЕГУЩИЙ ЗА СТРОКОЙ
Туда и обратно
Кирилл Ямщиков
призёр Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»
*текст написан специально для литературного проекта «Де_Геннин места», который осуществляется в рамках Библионнале#наурале.
Город встретил его хрустом гербарного конверта, жаркой, учтивой сухостью, обязательной наяву. То был, в самом деле, Civitas Solis, распростёрший силу от Незнайки до Любомудра. Громада света, далёкая и не до конца ясная перспектива – быть выше, тоньше, чем задано естеством. Он ступил вперёд, оглянулся – автомобили, дали, – выждал, пока яблоко светофора обрастёт зеленью, и миновал зебру разметки. Теперь оставалось видеть. Кровь шумела под бледной кожей, но солнце её не страшило.
Прежде, кажется, он видел эти холмы, скверы, башни, – на голубом глазу телевизора, часом тёмным и величавым. Е-ка-те-рин-бург жил в памяти, гудел, держался молодцом и одаривал мгновениями. Среди бытовых глупостей, доморощенных, с английского переведённых склок открывалась уральская столица, несколько оболганная сценарным методом. Знал же, дитё, что Гена Букин ненастоящий, что квартира его собрана из папье-маше, что и жена его актриса, но как хотелось верить!
Истинный Город не имел с Букиными ничего общего. Королевский размах, выверенная тропа. Он ехал, прислонившись щекой к горячему стеклу, и провожал взглядом людей, каждый из которых мнился отчётливо совершенным – витрувианцы, нет, екатеринбуржцы, план-схема радостного в узнавании идеала. Не впервые так было, что, отдаляясь от дома, он встречал сплошь литературу: живую, зримую, электризующую впечатления.
Город дышал сам по себе, и мелодия его дыхания не укладывалась в семь человечьих нот.
Так и сказали – мимоходом: редкая для Екатеринбурга погода. Удивительно было слышать это сейчас, когда солнце, нити его сплетались в хрусталике, подвергая ревизии виденное допрежь. Кроме здоровья, силы и плодов уверенности: что же за книжная кровь течёт под кожей, если теперь ей так неспокойно? Едва ли путешественник, вагабунд-хроникёр, но, проезжая улицу за улицей, чуял себя – таким. Человеком, способным к шагу. Хоть и летал, вдавленный в кресло, лишь второй раз в жизни.
Гостиничное крыло смеркалось, канонической готикой отдавали его панели и лампионы. На одном из этажей, кажется, спал-ворочался кубинец Фидель, гость беспробудного столетия, и было оно наяву – в той, другой истории мира. Шаги отдавали деревом. За поворотом виднелась нужная дверь – у самого края, на отшибе, как любил он живать и гостить. Вложил карту-ключ. Открылось. Мрак и тепло приветствия. Ровно в эту минуту он понял, что является гостем, и что место его приземления – Екатеринбург.
Речь шла, слова отталкивали, город за окном мерно звучал, и пространство тайны отпирало ворота. Хотелось увидеть всё и сразу – бронзового домоседа, вздымающего не менее бронзовую туфлю, ту самую улицу Титова, на которую свернул, разбрызгивая сирень, трамвай, редакцию журнала, где он, имярек, печатался уже четвёртый год, пройтись, словом, Кварталом Мифологии, с которого поныне доносится эхо агатакристиевского синтезатора.
Пожалев, что не курит – так вышло бы аристократичней, – он двинулся наружу, чтобы вобрать телом стремительный разбег дня. Солнце продолжало греть сухим, лишённым влаги теплом, и тепло это пробуждало радость, которой не было, пожалуй, очень долго – с прошлого, горе, лета. Люди, счастливо проходившие мимо, все как один напоминали ему о возможностях красоты: чем дальше ты от точки привычки, тем ярче любая из возможных встреч.
Хотелось, например, руку пожать незнакомцу, подмигнуть акробату-тяжеловесу, вытряхнуть из сердешной кладовой всё, что там порядком залежалось. Свобода абсолютная и непререкаемая – памятью о том, как живуча и строптива человечья природа. Он шёл, набирал скорость, разглядывал другие берега, и не мог осознать, что находится – просто-напросто – в городе, а не в эйкмановской inner room, которую любезно возделали для него память детства и теперешнее одиночество.
Ведь, поди, ещё до Гены Букина и его замшелых скабрезностей был Урфин Джюс, плотник-злодей, кукольных дел мастер, которого другие мастера, екатеринбургские, взяли и превратили в чудесную музыку – лепет на ветру традиции. Вдруг – блик, бег, и вспоминается, как отец говорил, да, непременно рассказывал о любимой музыке, среди неё обязательно вспыхивал Ален Делон (не пьёт одеколон, конечно, как забудешь), марсианский саксофон Могилевского и долгий, протяжный лирический монолог: «в чёрной коже, спокойной походкой…».
Урал открылся с двух противоположных, равноудалённых точек вымысла: телевизора этого, выпукло-базедового, и отцовских пристрастий, интереса его к свердловскому рок-товариществу, кроме готики и другими архитектурами прельщавшемуся. Так и хотелось – распахнув объятия – воззвать: пусть всё будет так, как ты захочешь! Пусть твои глаза как прежде горят! Но кто – ты? Он, разумеется, не знал, а потому брёл, огибая лавочки и кафешантаны, наблюдая большую реку и не зная, куда деть большое чувство.
Спал плохо, и не спал даже, а притворялся, ворочался с боку на бок, раскручивая, как бы сказать хорошо и по делу, не занять много времени, выступить достойно, ведь в этом, несомненно, кроется его основная задача – не оплошать. За окном стало тише, и, кажется, даже ночная тьма, испытанная теплом, не могла оставить в покое, словно примеряла, разглядывала. Только в кровати, сдавленный ночью, он и задумался о том, что быть одному – благо далеко не всегда, особенно если не с кем – вот так, по резвой памяти, - разделить чувство, сбивающее с ног.
Речь не шла.
Утро, впрочем, зажглось по расписанию, и в глаза снова хлынуло оно – абсолютное, непобедимое солнце. Встал, умылся, принял душ, освоил завтрак, порадовался, в целом, классическому торжеству подготовки, собирания цельности (по сусекам, по углам). Через пару часов должно было начаться то самое, ради чего и зрело путешествие, ради чего он приземлился в городе цветущей византийской сложности. Да и, чуть позже – на вершине башни «Высоцкий», – узрел он самый представительный из городских пейзажей.
Наконец, час-другой – вместе с главным, августейшим гостем этого дня, - он, имярек, подобрался к библиотеке и шагнул внутрь. Немота предвкушения реяла по лестницам и коридорам, хотя, впрочем, некоторые уже стояли в фойе и оживлённо разглядывали афишу. «Неистовый Виссарион». Всего два слова – и вечность, стоящая за ними. Поднялись, миновав ступени, двинули тяжёлую, громовую дверь и оказались в зале – там, где скоро должна была пройти церемония награждения, церемония – встречи с литературой.
Он снова зарылся в слова, томительные коннотации, и попытался вспомнить, что накарябал в ночи (право, было же хоть что-то достойное, убедительное?). Но, увы, слова рассыпались, пробудив злобу на самого себя, на то, что в обязательной, триумфальной ситуации подобрать буковки значительно труднее, чем в минуту абсолютного равнодушия, - и тогда он сел неподалёку от трибуны, чтобы осознать мгновение. Проходили, знакомились, улыбались, и он улыбался в ответ, но не мог самого главного.
Подобрать определение.
Тогда-то и хлынул поток страстного, жаркого, великого света, и заговорили те, кого он хотел услышать, и в шумном зале головы, ресторанчике этом на одну персону, заиграла музыка, ранняя, должно быть, осенняя, которую ставил ещё отец. «Урфин Джюс – моя любимая группа». Хорошо, помню. И слова нашлись, без принуждения, как необязательные, но харизматичные родственники. Прибились и сели рядом – в центре зала, чтобы дождаться, пригодиться.
То был июнь, самое начало его, и, конечно, речь, так долго не шедшая к хозяину, вдруг решила объявиться: церемония прошла на ура, и позже, густым, пронзительно точным вечером, он сидел в редакции журнала, где, имярек, печатался уже четвёртый год, беседуя с людьми, приятнее которых трудно найти. Он шуршал словами, которые сразу опознаются как подлинные: юркие, жаркие угольки, смарагды и ониксы. Разговор обо всём, оседающий в голове навсегда, даже если что-то другое, менее и более обязательное, выветрится, испарится.
На мягких подушках не въедешь в вечность, это, должно быть, правда, но лёгкость цвела и в тот вечер, и утром после, когда вновь гудел самолёт, и в чреве его, добродушный, летел уже я, приспособившийся к рассказу от первого лица, не прячущийся за тантамареску; направляясь обратно, в Москву, ещё не осознавая, что впереди целое лето, которое можно потратить на чувство – ведь не зря оно копится, крепится? – чувство уверенности в кляксе, ведущей за собой слова, и в словах, этой кляксой ведомых.
Прощаясь с Екатеринбургом, я, самое-самое утро, всё же доехал на такси до Гринвича и отыскал там лукавого Гену Букина, закованного в бронзу до самых пят. Туфля, которую тот вздымал к солнцу, мерцала ритуалом, и мне не оставалось ничего, кроме как приобщиться: улыбка, рукопожатие, аэропорт. Проходивший мимо старичок взглянул на меня с добрым снисхождением, какое бывает, если коренной житель встречает гостя, ещё не опробовавшего всех туристических фантазмов, - но я думал не об этом, а о невыразимой радости, промелькнувшей всего двумя словами: «Неистовый Виссарион».

«ОНИ ТАКИЕ СТРАННЫЕ, ПРАВДА? Я ИМЕЮ В ВИДУ… КНИГИ»
ОПИСЬ
Евгений Иванов
автор идеи Библионнале#наурале. Текст был написан в качестве комментария к одноименной выставке-антологии авангардной литературы – гипертекстов – и необычных изданий
Эпиграф: «Через несколько минут они уже были в библиотеке, в отделе, где был выход в интернет.
Внутри библиотеки было прохладно, и вид у нее был приличный, как у места, посещаемого людьми, в жизни которых нет места случайностям, чьи домочадцы дарят друг другу к Рождеству коробки компакт-дисков и модные свитера, которые никогда не подделывают чужие подписи и не заводят интрижек с юношами из бассейна по имени Джейми и с сослуживицами по имени Николь.
— По-моему, я впервые в жизни в библиотеке, — сказал Брайан без малейшей иронии.
— Нет, мне случалось, — сказал Уэйд. — В Лас-Вегасе, когда я заболел. Они такие странные, правда? Я имею в виду... книги».
Дуглас Коупленд. Роман «Нормальных семей не бывает»
ПРОПУСК В ПУСТОТУ. РОССИЯ
часть раз
[1] ~«Горизонтальное положение, сон». Типовая концовка для многих дневниковых записей, из которых состоит роман «Горизонтальное положение», из ряда вон выходящее произведение сейчас широко известного писателя и драматурга Дмитрия Данилова. Репортаж о самом себе длиною в год на рубеже нулевых и десятых. Учетная книга перемещений автора по Москве, Подмосковью, по командировкам и немного по Америке. Бесконечные маршрутные листы, избегающие любых красивостей слога. Предельно инфантильная, скупая на эмоции проза, разбитая по датам. Порой в ней ощутимы приметы латентного аутизма, если иметь в виду такие симптомы, как «ограниченные и повторяющиеся паттерны поведения и интересов». Монотонный и малособытийный травелог о житии-бытии писателя по совместительству журналиста, вынужденного для поддержания бюджета калымить на ниве создания заказных «датских» книг о знатных газовиках и нефтяниках (технологии генерирования подобных текстов в «Горизонтальном положении» тоже есть). Параллельно Данилов блестяще демонстрирует во всей гениальности простоты процесс производства на скудном жизненном материале модернистского литературного сочинения, использующего метод «нейтрального письма», или «нулевой степени письма», согласно теории Ролана Барта.
[2] ~наш современник – писатель Денис Осокин – пишет прозу – очень похожую на поэзию – наиболее часто используя такой знак препинания – как «тире» – при этом отказываясь от заглавных букв и даже запятых. часто прибегает к типографике – это искусство оформления текста – усиливающее его визуальное восприятие – тексты набираются узкой колонкой – сцентрованным столбиком – слова с помощью пробелов выравниваются в каждой строке по одинаковой длине. всякий текст именуется КНИГОЙ – даже очень небольшой по объёму – имеет ложный год создания – типа 1918 – 1927 – 1970 и т.д. – и указание на место создания – уржум – ветлуга – верхний услон – вятка – подписывается не только собственным именем – но и гетеронимами – якобы существовавшими авторами – как то аист сергеев – валентин кислицын. несмотря на отсутствие порой ясно различимого сюжета – несколько книг осокина экранизированы – в том числе екатеринбургским режиссером алексеем федорченко – «овсянки»» – «небесные жены луговых мари» – «ангелы революции». представленная книга – с автографом – адресованным куратору выставки.
[3] ~Теперь уже, наверное, раз и навсегда автор только трех романов Саша Соколов, четвертый опус магнум которого в самом деле или якобы сгорел, после чего писатель, так и не дождавшийся Нобеля, хотя и долго жил в эмиграции в штате Вермонт по примеру Солженицына, принял добровольный обет молчания в духе Сэлинджера, второй свой корпус текстов названный «Между собакой и волком», основанный на впечатлениях автобиографической службы егерем вдали от советской цивилизации, построил на сочетании прозы («ловчих повестей») и поэзии («записок запойного охотника»). Стихи всех стилей и направлений свидетельствуют смену времен года и поэтических мод, с прозрачным налетом алкоголической эстетики, присущей некоторой части лучших образчиков русских виршей, создатели которых будут долго любезны народу своим по-свойски задорным, загульным образом жизни:
Селясь в известной стороне,
У некоторой бобылки,
Слагал Записки; тут оне,
В приплывшей к вам бутылке.
Я составлял их на ходу,
Без всяческой натуги –
То в облетающем саду.
То в лодке, то на луге.
Слагал, охотился взапой
И запивал в охотку,
Пил с егерями зверобой
И с рыбарями – водку.
Коннект прозы и поэзии Соколов впоследствии позиционировал в виде нового жанра, нареченного им «проэзией». Вот как он его описывал: «Стихи и прозу я начал писать одновременно. Я придумал этот термин – проэзия – чтобы обозначить то, что я делаю, потому что это и не проза, как ее сейчас понимают, и не лирика».
В заключительной записке-постскриптуме, венчающей роман, некий альтер-эго чисто по-русски впадает в раж, разом сочетая острый приступ самоуничижения с эйфоричным приходом мании величия:
…Как после бутылки минует тоска,
Нам душу шершаво потискав, –
Так – столь же бесславно – исчезнут пускай
С чекушкою вместе записки.
Кому это нужно все – вот в чем вопрос,
Зачем я, охотник-лохмотник.
На лоне бытья заскорузлый нарост,
Срамник, выпивоха и сводник,
Записки в верховьях реки сочинил
и сплавил в низовья куда-то…
Напрасная трата свечей и чернил
И силы теченья растрата.
….
Попробуй пожги только, дурья башка,
Мои гениальные строчки.
(Это, собственно, последние строчки «Между собакой и волком»).
[4] ~Внецикловый «Идеальный роман» (1995-1995) писательницы, известной как Макс Фрай, можно описать как пространную игру в буриме, в которую вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сыграет и что-нибудь допишет. «Идеальный роман» – это сборище последних абзацев несуществующих сочинений с одними только названиями, разбитых на разделы, находящиеся (как в заглавии экспериментальной повести Василия Аксёнова) «В поисках жанра». На выбор читателю предлагаются возможные, расхожие, стилизованные, типовые концовки таких продуктов писательской кухни, как: анекдоты, классика, криминальное чтиво, ир(с)ландская сага, литературная биография, мистика-ужасы, фэнтези, фантастика, эротика, путевые зарисовки, авантюрный (женский), (исторический), (шпионский) роман, современная (юмористическая), (советская и антисоветская заодно) проза, детская (приключенческая), (эзотерическая) литература, сетература… эт сетера.
Есть как бы пародия и на модернистскую литературу:
ПАРИС
(Современная европейская проза)
В целом, «Идеальный роман» это, скорее, интеллектуальный стёб, чем высокое достижение формалистических технологий, хотя местами занятно.
[5] ~Библиографическая запись в библиотечном каталоге подает эту книгу так: Два ларца, бирюзовый и нефритовый : [памятник китайской средневековой культуры]. — Санкт-Петербург. — Москва : Лимбус пресс : Издательство К. Тублина, 2008. — 240, [1] с. ; 19 см.
Хотя на самом деле никакой это не трактат пятисотлетней выдержки будто бы ранее неизвестный науке, каковым он подается в кратком предуведомлении «переводчиком и публикатором» А.К. Секацким. Медийный питерский философ в данном случае преподносит доверчивому читателю мистификацию чистой воды, мол, «рукопись написана черной тушью», а на деле это вещь собственного его изготовления, отстуканная на компьютере. Но жанр у «Двух ларцов» и вправду редчайший. Александр Секацкий попробовал схимичить род этнической учебной литературы, сборник шпаргалок, предназначенных «для сдачи экзаменов, с помощью которых на протяжении веков определялись чиновники достойные управлять Поднебесной». Морально-этический задачник с философскими закидонами и образцами решения, вариантами правильных ответов для воспитания будущих верных слуг народа. 44 параграфа, где условия каждого задания излагаются языком дальневосточной притчи: «Дэн Четвертый из Фучжоу, преуспевающий базарный торговец, содержал лавку, в которой продавал талисманы» и т.п.
Извините, но придется раскрыть и последнюю тайну книги – Нефритовый ларец окажется совершенно пуст!
НО ВОТ ЧТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНО
часть два
[6] ~Самая странная книга Владимира Набокова – антироман «Бледное пламя» (в другой адаптации – «Бледный огонь») впервые стал доступен широкому отечественному читателю благодаря продвинутым свердловчанам. В 1991 году Независимое издательское предприятие с совпадающим по цифрам названием «91» в своей серии «Библиотека Человека» тиражом 100 000 экземпляров выпустило второй по счету и гораздо более удачный по сравнению с первым перевод Сергея Ильина, который от себя к и без того сложноструктурированному тексту добавил краткий словарь непонятных слов и выражений.
Само «Бледное пламя» состоит из предисловия вымышленного издателя, 999 строк поэмы в четырех песнях, приписанной некоему Джону Фрэнсису Шейду, многостраничного корпуса комментариев к поэме и не менее загадочного Именного указателя.
Лучше разобраться в хитросплетениях этой кунстштюки поможет еще более объемный труд исследователя жизни и творчества Владимира Владимировича профессора из Новой Зеландии Брайана Бойда «"Бледный огонь" Владимира Набокова: волшебство художественного открытия».
[7] ~Главная русская «Книга Примечаний» – огромный философский роман «Бесконечный тупик» написан совсем молодым человеком Дмитрием Галковским в середине 1980-х, на момент завершения автору исполнилось 28 лет. Официальная публикация «возмутительной» книги состоялось только в 1997-м, в дальнейшем выходило еще исправленное и дополненное издание. Текст состоит из 949 «примечаний» к «исходному тексту» – сравнительно небольшому по объему «эссе», который автор сперва даже не хотел включать в корпус романа. Сейчас он печатается в конце, а схема примечаний, похожая на «математическое дерево» размещается на форзаце. Истоки «Бесконечного тупика» исследователи видят в творчестве Василия Розанова, ссылки на идеи которого пронизывают весь роман, сопоставляют его и с набоковским «Бледным пламенем.
[8] ~Главная иностранная «Книга Примечаний» – роман шведа Петера Корнеля «Пути к раю. Комментарий к потерянной рукописи» (1987) в соотношении с «Бесконечным тупиком» совсем кроха, имеет сто с лишним страниц. Но будто бы сама утраченная рукопись была произведением капитальным, и неназванный автор трудился над ним в течение трех десятилетий в Королевской библиотеке. Однако после его кончины удалось обнаружить только научный аппарат, отпечатанный на машинке и даже не пронумерованный. В предисловии Корнель объявляет себя публикатором, а также единственным другом и учеником писателя инкогнито, который взялся выпустить в свет 122 разрозненных страниц комментариев (которые могли тоже сохраниться далеко не полностью), пронумеровав их по своему усмотрению. В «Путях к раю» муссируется несколько магистральных тем, среди них: лабиринты, путешествия, нетрадиционное искусство. Текст снабжен рисунками, фотографиями, иллюстрациями. Петер Корнель за этот текст, «открывший двери в литературу XXI века» удостоился высоких похвал от собрата по нелинейному письму Милорада Павича, его перу (романов он более не выпускал) принадлежит также несколько программных работ, посвященных интерактивной словесности.
ЯЗЫК СЛОМАЕШЬ. PONY – ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ
часть три
[9] ~Роман «Пигмей» авторства Чака Паланика написан на плохом английском, нарочно на ужасном английском. Из серии «Моя твоя не понимай», от первой до последней строчки. Написан от лица иностранца-азиата, едва владеющего языком страны пребывания, то есть США. Роман состоит не из глав, а из донесений. По легенде по программе обмена в американские семьи засланы узкоглазые казачки-малолетки с диверсионными и террористическими целями. В ожидании «Времени Че» пришельцы из иного некапиталистического строя, спящие агенты (с виду безобидные подростки, а на самом деле суперподготовленные боевики) постепенно вживаются в чужую среду, пытаясь разложить ее изнутри, не догадываясь в какое болото демократии их засасывает. Злая и беспощадная социальная сатира, остроумно обращенная в сторону двух противоборствующих и равно деградировавших систем, когда никаких нормальных слов не хватает, и никто друг друга понять не в состоянии.
[10] ~Роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» славен не только своей гениальной экранизацией в постановке Стэнли Кубрика, но славен еще вот чем:
- молодежный сленг, жаргон для посвященных «надсат», используемый британской шпаной, членами уличной банды и главными героями книги основан преимущественно на русских словах;
- всего в тексте романа выделяют 241 выдуманное слово и выражение, 187 из которых имеют русское происхождение;
- название синтезированного арго также взято из русского: надсат [англ. – Nadsat] – транслитерация русского суффикса порядковых числительных от 11 до 19 -надцать, произнесенного на английский манер. Соответственно в английском языке суффикс -teen, аналогичный суффиксу -надцать, встречается в порядковых числительных 10 и от 13 до 19, а английское слово «teens» означает «подростки»;
- незадолго до написания романа писатель побывал в Советском Союзе, где, видимо, и понабрался наших словечек;
- некоторые подозревают Бёрджесса в том, что он злонамеренно заставил своих отморозков ботать по фене «империи зла»;
- слова, в которых используются корни русского происхождения, подразделяются на два вида:
• слова, заимствованные прямым способом и изменяющиеся в соответствии с правилами грамматики английского языка: «шshoomум», zoobies «зубы», mesto «место», slovo «слово» и др.
• слова, подвергшиеся сокращению. Этот вид составляют все заимствованные глаголы, которые теряют окончания: viddy «видеть», pony «понимать», slushat «слушать». У имён существительных и прилагательных усекаются не только окончания, но и суффиксы: biblio «библиотека», chasso «часовой».
- трудности перевода имели место в обоих случаях. Восприятие и понимание надсата составляет существенную трудность для англоязычного читателя, сталкивающегося со словами незнакомого языка, смысл которых в оригинале объясняется лишь изредка, через указывание синонимов самим рассказчиком. В наших адаптациях переводчики либо обозначали славянские слова латиницей, выделяя их таким образом из текста на русском языке, либо «аля-русские» словечки транслировались на инглиш и писались кириллицей. Про этот способ перевода есть такая зубодробительная отповедь: «замена ядреных авторских неологизмов и загадочных для английского читателя русизмов на банальные американизмы („мэн“, „фейс“, „мани“ и проч.), которыми в восьмидесятые годы пробавлялись советские неформалы, превратила изысканный макаронический коктейль в убогую бормотуху».
НИ СЛОВА В ПРОСТОТЕ. БЕСКОНЕЧНЫЙ СЛОВАРЬ
часть четыре
[11] ~Ославленный пресловутым оруэллом, 1984-й – стал годом публикации романа «Хазарский словарь», совершившим переворот в нелинейной прозе и сумевшим при этом стать мировым бестселлером. Данное литературное событие ознаменовало появление настоящего мастера гипертекста. Милорад Павич на протяжении писательской карьеры был неистощим на выдумку замысловатых новаторских форм повествования, интерактивных выкрутасов с читателем, одним из первых стал использовать возможности Всемирной паутины. Упорно старался, чтобы ни одна его книга не была написана в простоте. В итоге сербский романист-реформатор оставил на радость любителям литературных игр и гипертекстов:
^Роман-словарь «Хазарский словарь». Имел две версии – Мужскую и Женскую, отличие, по утверждению автора, состояло всего лишь в одном абзаце. Словарь постатейно подразделялся на Красную, Зеленую и Желтую книгу, читай – христианские, исламские и иудаистские взгляды на хазар. Читать роман-словарь можно было как последовательно, так и совершенно произвольно.
^Роман-кроссворд «Пейзаж, нарисованный чаем» (1988). Иногда обозначается как роман-сновидение. Помимо шарад, предполагал прочтение, как по вертикали, так и по горизонтали.
^Роман-клепсидра «Внутренняя сторона ветра (Роман о Геро и Леандре)» (1991). Фактически это история-перевертыш, скрученная из двух книг. В нем присутствуют два начала и два конца. С какой стороны читать – решать читателю.
^Роман-таро «Последняя любовь в Константинополе: Пособие по гаданию» (1994). Предоставляет еще более огромное поле выбора для развития сюжета и перемены участи героев книги по воле случая. 22 главки – тёзки соответствующих карт Таро. Они снабжены двумя приложениями «Как читать карты Таро» и «Толкование». В издании на русском 2000 года есть цветная вклейка карт с сербскими подписями, а на последней стороне присутствует реклама (!) романа Петера Корнеля «Пути к раю» с высочайшей рекомендацией Павича.
^Роман с интернет-ссылкой «Ящик для письменных принадлежностей» (1999) имеет два финала. Первый можно прочесть в книге, а другой только в интернете по указанному на странице электронному адресу. Можно также совмещать электронную и бумажную версию.
^Роман «Астрологический справочник для непосвященных «Звёздная мантия» (2000) разложен по знакам Зодиака, а повествованию придана форма гороскопа, но описывающего не ближайшее будущее, а загадочные предыдущие жизни в различных эпохах.
^Детский двухчастный мини-роман перевертыш с гендерными различиями «Невидимое зеркало — Пёстрый хлеб» (2003). Одна история для мальчиков, другая для девочек. Прочитав одну из них, книгу можно перевернуть вверх тормашками и познакомиться со сказочкой для противоположного пола. Впрочем, как гласит эпиграф: «Если у тебя случайно не получится прочитать эту книгу до конца, не расстраивайся. Книге это большого вреда не принесет. Ведь недочитанная книга похожа на жизнь без смерти». Вопрос только в том, насколько современных детишек заинтересуют истории про десять почтовых открыток и двенадцать серебряных солдатиков?
^Роман-дельта «Уникальный роман» (2004) – детектив не для угадывания того, кто окажется душителем или отравителем, и кого меньше всего можно было бы подозревать. Здесь читателя заманивают в соучастники. «Каждый читатель, если захочет, может сам дописать свой конец романа. Для этого мы оставляем несколько пустых страниц». А еще можно выбрать развязку криминального сюжета из 100 (ста) вариантов.
^Роман-антология, или современный мировой рассказ «Бумажный театр» (2007), составляют тридцать восемь рассказов, написанных от лица вымышленных авторов, каждый из которых представляет какую-нибудь национальную литературу. Исключением является лишь сам Милорад Павич, выступающий под своим именем под флагом Сербии. Интересно, что замыкает список литератур – Россия. Как сообщается, ее представительница Екатерина Тютчева:
«Умерла в 2003 году, в лесу, собирая землянику, и с ее кончиной связана одна небольшая история – свидетели смерти этой старой дамы говорят, что если бы кто-нибудь догадался проследить за взглядом ее широко открытых мертвых глаз, то увидел бы ангела, возносящегося к вершинам деревьев. Но никто не догадался». Особую пикантность рассказам добавляют выдуманные Павичем иронические биографические справки о писателях, почти все они, как на подбор, жили и творили очень затейливо и даже умирали изысканно, «собирая землянику».
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
часть пять
[12] ~Совсем без слов обошелся австралиец китайского происхождения Шон Тан при создании своего графического романа «Прибытие» (The Arrival), получившего широкую известность и разные престижные награды с формулировками «лучший комикс» или «лучшая книга с картинками». Автора назвали «непревзойденным мастером визуального повествования» за то, что у него получилось написать роман, не так как пишут серию картин, а рассказать историю с сюжетом, выстроенным в виде цепочки изображений. «Прибытие» это монохромная жизнеописание переселенца-беженца-иммигранта в чужой для него мир, в котором ему непросто адаптироваться. Все-таки чтобы вникнуть в этот роман без букв нужно обладать недюжинной фантазией. Поклонники утверждают, что для лучшего понимания его следует «перечитывать» не один раз. Книга к тому же – мечта корректора. Вот бы еще нашелся критик с художественным дарованием, который бы откликнулся на «Прибытие» рецензией в картинках.
[13] ~В книге Эйвинда Турсетера «Дыра» слова есть, но они укладываются всего в один абзац:
«Алло! Я обнаружил дыру… в квартире.
В моей… да… нет… она двигается… да…
Может, придете и посмотрите… нет…
Ну ладно… Принести ее к вам?
Как?.. Алло?»,
и несколько реплик:
«Что это?», «Это я вам звонил насчет дыры», «Посмотрим!», «Красота какая!», «Посмотрим, как она отреагирует на тесты».
Но главный прикол, или лучше сказать прокОл книги в том, что в книжном блоке ровно посередине проделана настоящая дыра!
Черная дыра сюжета берется ниоткуда и уходит в никуда. Главное действующее лицо почему-то мул, ну помесь ослика и лошадки, но прямоходящий в штанишках, в худи и ботиночках переезжает на новое место жительства, где и находит загадочное отверстие. Намучившись с этой то ли недоделкой, то ли существом – потомком дырки от бублика, и отчаявшись его устранить, мул сажает нечто в коробку и относит ученым для опытов. Чем все заканчивается – вопрос открытый, мул, расставшись с дырявой проблемой ложится спать.
Пишут, что авторская задумка Турсетера состояла в том, чтобы сделать книжный формат частью истории. Для разработки идеи художник взял стопку пустых скетчбуков, просверлил в них отверстие и только потом начал рисовать. Сначала простые предметы с дырками. Затем появились более сложные варианты. Что если дыра на странице, например, сама станет предметом? Или что произойдет, если дыра будет двигаться? В итоге дыра по ходу действия переживает множество превращений, становясь колесом автомобиля, фарой, светофором, глазом, буквой в надписи «киОск» и т.д. Благодаря чему минималистичный сюжет разверзся на 64 страницы, а не на стандартные 32, как обычно бывает в книжках-картинках.
[14] ~Судьба флипбэков, ошибочно нареченных в нашей стране флипбуками (а так правильно следует называть компактные блокноты с картинками, иногда с анимационным эффектом, но в любом случае это книги для перелистывания), сложилась не сказать, чтобы блестяще. Книжный мир они не завоевали, став, по сути, коллекционными книжными изданиями. Их подавали как бумажную версию электронных устройств для чтения. Где-нибудь в метро. Теоретически эти листайки можно было держать и переворачивать одной рукой. Приятные особенности состояли в суперкарманном формате величиной с ладонь, тонкой рисовой бумаге, модном содержании (пелевин и всякая мураками), занятные – в тексте, набранном поперек страницы. Прогрессивные, эргономичные флипбэ(у)ки остались интересным издательским артефактом, и особо не прижились, как, впрочем, и букридеры, которые они имитировали.
ИГРЫ С ТЕКСТОМ
часть шесть
[15] ~Питер Гринуэй пережил свою славу. Но продолжает снимать своё кино более 60 лет. Если считать все его фильмы, включая ранние ленты, короткометражки, документалки, телевизионные работы и видеопроекты их наберется около 80. Он также издал больше 40 книг, и это не только литературные сценарии снятых и неснятых картин, но и вполне самостоятельные произведения, которые условно можно назвать романами. Многие книги Гринуэя имеют форму экзотических и загадочных каталогов. Особенно притягательна для него цифра 92. Так трехчасовой первый полнометражный фильм режиссера «Падения» 1980 года включал 92 биографии людей – жертв Загадочного Ожесточенного Воздействия (сокр. ЗОВ), чьи фамилии начинаются с Фолл- (от англ.The Falls – т.е. Падения). В 2010 году выходил фильм «92 ядерных взрыва на планете Земля». Амбициозный и не реализованный полностью мультимедийный проект «Чемоданы Тульса Люпера» (2002-2005), включавший в себя и кино и литературу, должен был быть издан на 92 различных носителях. Роман-перечень «Золото» (2002) является составной частью этого артпроекта, и в нем в 101 главке повествуется о судьбе и необычайных приключениях 92 золотых слитков, похищенных в дни падения Третьего рейха. В четвертом фильме цикла «Чемоданы Тульса Люпера: от Сарка до конца» снялся звезда национальных особенностей охоты Алексей Булдаков и еще ряд заметных российских актеров.
[16] Незамеченный шедевр, прощальный поклон мастера – так называемые «Мемуары Сергея Эйзенштейна» – долгое время не рассматривались как подлинное литературное явление, и публиковались где-то на задворках собрания сочинений как незаконченные автобиографические наброски.
На самом деле это, возможно, лучший гипертекст на русском языке, сотворенный по законам «потока сознания» и «автоматического письма», написанный фактически белым стихом – каждое предложение начинается с красной строки и имеет поэтический настрой.
А его незавершенность сродни всем романам Кафки, обрывающимся на полуслове.
Довольно объемный корпус текстов (2 тома!) был написан Сергеем Эйзенштейном после инфаркта на больничной койке в рекордно короткий срок в 1946 году всего за несколько месяцев. «Мемуаристу» исполнилось на тот момент 48 лет.
Эти «воспоминания» чем-то напоминают огромный сценарий.
Но мы возьмем на себя смелость утверждать, что это был последний, самый личный, насквозь автобиографический ФИЛЬМ НА БУМАГЕ, снятый в воображении, подробно законспектированный, но не до конца смонтированный режиссером, который осознал, что на пленке его реализовать он не успеет, да и не дадут.
Потому что замаскированные под мемуары главы собственной жизни абсолютно свободное, раскрепощенное жизнеописание полиглота-эстета, человека мира, которому по большому счету все равно «какое тысячелетье на дворе и кто там на троне».
Это исповедь великого творца-провокатора, сумевшего эффектно самовыразиться не только в кинематографе, но и в графике, и, как мы видим – в литературе.
Полностью «Мемуары» (некоторые исследователи склонны даже присвоить им жанр «роман-самоубийство») были опубликованы к столетию Эйзенштейна.
В наши дни Музей современного искусства «Гараж» издал их в дополненном и сверенном по рукописи варианте уже вполне себе как роман в двух книгах под броским заголовком «YO».
[17] ~«Призраки» авторства Чака Паланика – реквием по писательской мечте. Группу охваченных жаждой творчества загадочных типов с непростыми жизненными историями, скрытых за кличками-масками (Леди Бомж, Повар Убийца, Товарищ Злыдня, Святой Без-Кишок, Герцог Вандальский, Мисс Апчхи и т.д.) заманивают на три месяца в отрезанную от мира литрезиденцию, где им (спойлер) предстоит сгинуть.
Предполагалось, что это будет убежище для писателей.
Предполагалось, что там нам ничто не грозит.
Уединенная писательская колония, где можно спокой-
но работать, под патронатом старого, умирающе-
го человека по имени Уиттиер, но оказалось, что
все не так.
Предполагалось, что мы будем писать стихи. Замечатель-
ные стихи.
Жутковатое, заряженное сатирой повествование действительно пронизано стихами – своего рода визитными карточками каждого персонажа. Кроме того, читателю «Призраков» предстоит познакомиться с 23 вызывающими и гротескными рассказами (образцами прозы) авторов-колонистов, вкрапленными в хронологический текст, от чтения которых мало не покажется, а Пелевин может показаться детским писателем.
[18] ~Специальный ирландский номер, выпущенный журналом «Иностранная литература» (№3, 2022) содержал в себе и творения продолжателей дела Джеймса Джойса. (НЕВКЛЮЧЕНИЕ В НАШУ ВЫСТАВКУ-АНТОЛОГИЮ «УЛИССА» СВЯЗАНО С ЕГО АБСОЛЮТНОЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ И КУЛЬТОВОСТЬЮ НА ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НОВАТОРСТВА, ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО, ДЕМОНСТРИРОВАТЬ БИБЛИЮ В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ).
Так на страницах журнала появился переводной отрывок из того самого романа «Солнечный остов» (заглавие интерпретируют по-разному) Майка Маккормика, который навряд ли увидит свет по-русски в полном варианте, ввиду своей явной коммерческой сомнительности, но который удостоился упоминаний в нашей культмассовой прессе.
Новость от 10 ноября 2016 года популярного информагентства:
«Написанный одним предложением роман получил премию Голдсмитс
Ирландский писатель Майк Маккормак получил престижную премию университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», сообщает The Irish Times. Книга, выпущенная издательством Tramp Press, насчитывает 223 страницы. Роман написан одним предложением.
«Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология – лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествования, представленного лиричной, но крепкой прозой», – заявил один из членов жюри, профессор Блэйк Моррисон.
Приз, вручаемый за лучшие достижения в области экспериментальной художественной литературы, составляет 12 тысяч долларов.
Маккормак в четвертый раз стал лауреатом премии, учрежденной в 2013 году лондонским университетом Голдсмитс. Писатель также стал уже третьим ирландцем в списке победителей.
Майк Маккормак начал писательскую карьеру в 1996 году, когда за дебютный сборник рассказов получил ирландскую литературную премию Rooney Prize».
А вот что пишут о нем в предисловии в «Иностранке»:
«Майк Маккормак (1965), которого обозреватель газеты «Айриш таймс» Джон Уотерс называет писателем, «незаслуженно обойденным вниманием» один из тех, кто предпочитает двигаться в направлении, перпендикулярном литературному мейнстриму. «Если у тебя есть этот экспериментаторский заскок, ты сам себе создаешь проблемы, – говорит о себе писатель. – Я, например, пять лет не мог опубликовать ни одной книги. Мне и моим близким приходилось туго. Но, как говорит моя жена Мейв, «твоя работа не публиковаться… твоя работа – писать».
Маккормак, автор двух сборников рассказов и трех романов, и раньше использовал в своих произведениях нетрадиционные формы. Его предыдущий роман «записки из комы» (2005) состоит из двух параллельных текстов, один из которых оформлен в виде сносок и представляет собой развернутый обезличенный комментарий происходящего с главным героем и окружающим его миром. В своей последней книге «Солнечный остов», опубликованный в 2016 году, автор идет еще дальше – весь роман состоит из единственного предложения длиной в двести с лишним страниц! Это закономерно наводит на мысли о джойсовском потоке сознания, но, в действительности. Текст Маккормака имеет с «Улиссом» малого общего».
ОТМЕТИМ, что сей номер писатели откалывают не впервой. Правда, ознакомиться с ними можно только в оригинале.
Например, за год до рождения ирландского самородка, был напечатан чешский роман «Уроки танца для старших и продвинутых учеников», написанный в 1964 году Богумилом Грабалом. В нем содержалась история о старике, который подошёл к шести женщинам, загорающим посредине города, и начал рассказывать им о том, что ранее случалось с ним в жизни. Казалось бы, ничего странного, не считая прихоти загорать, где придется, если бы не один нюанс: все 128 страниц книги состояли всего лишь из одного предложения. Критики тогда назвали книгу городским анекдотом с привкусом сюра.
[19] ~«Бельэтаж» Николсона Бейкера удостоился целого фейерверка одобрительных откликов от коллег и прессы в довольно парадоксальных формулировках:
«Серьезно смешная книга. Маленькие вещи – шнурки, соломинки, беруши – после нее никогда не будут казаться прежними» (Салман Рушди);
«Книги Бейкера – это как обрезки ногтей» (Стивен Кинг);
«Неотразимый роман Бейкера – подлинная свалка жизни современного офисного работника. Элегантно манипулируя временем, рассказчик препарирует культурный слой тщательно и смешно. Одни сноски чего стоят…».
В скобках заметим, что они порой на равных делят площадь книжной страницы. «Поистине одиссея примечаний», - отмечал «Библиотечный журнал».
«…книга полезна, поскольку в ней обсуждаются бумажные полотенца и способы одевания носков. Ее полюбил бы Энди Уорхол – он скупил бы весь тираж, просто для смеху. Всем остальным следует ограничиться одним экземпляром».
«Роман – триумф интеллектуального шока. Шока от увиденного свежим взглядом».
«Бельэтаж» – одинокий голос офисного планктона, задерганного канцелярией и мелкими неприятностями. Время действия романа размазано в пространстве двухсот страниц, за которое герой успевает только в свой обеденный перерыв решить проблему с порванным шнурком, проехаться на эскалаторе, посетить туалетную комнату и купить перекус.
«Бельэтаж» Николсона Бейкера ближе всего относится к традиции «нового романа (антиромана), декларированного французскими литераторами в середине прошлого века, с его беспристрастным воссозданием «субстанции существования», но доведенного до края бессмыслицы рутины работы в офисе.
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ ВЫЖДАТЬ СТО ЛЕТ, ПОКА РАСТЕТ ТЫСЯЧА СОСЕН
часть семь
[20] ~ Популярный в наши дни писатель Дэвид Митчелл известен своими заковыристыми романами «Облачный атлас», «Литературный призрак», «Сон №9», «Лужок черного лебедя», где обычно персонажи пересекаются в разных историях, которые оказываются странным образом связаны между собой, где рассказчики меняются, а действие может начать идти вспять. Но известен Митчелл еще и тем, что один из его романов смогут прочесть только в довольно далеком будущем, ибо он стал одним из тех писателей, кто согласился принять участие в проекте «Библиотека будущего». Жестоко по отношению к современникам, причем неизвестно оценят ли этот жест и текст потомки.
Библиотека будущего (норв. Framtidsbiblioteket) — общественный арт-проект шотландской художницы Кэти Патерсон, стартовавший в 2014 году и рассчитанный на 100 лет. Каждый год в течение века один из крупных современных писателей передаёт проекту свой новый роман. Собранные таким образом произведения будут опубликованы в 2114 году.
Для его реализации был учреждён специальный фонд, проект поддержан администрацией столицы Норвегии и разработан по заказу города Осло для так называемого «Медленного пространства» общественного искусства, которое создается на территории бывшего порта.
Рукописи будут храниться в специально оборудованном зале нового здания публичной библиотеки Осло, в районе Бьорвика. Список сочинений будет отображаться на дисплее, но рукописи не будут доступны для чтения.
Комитет фонда ежегодно отбирает нового автора на основе критериев «выдающегося вклада в литературу или поэзию и возможности захватить воображение настоящего и будущих поколений».
Тысяча сосен была высажена в лесном массиве Нордмарка, в 2114 году они пойдут на изготовление бумаги для печати получившейся антологии ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Сертификаты на приобретение антологии были распроданы по цене 625 фунтов стерлингов.
Участники проекта:
2014 — Первым автором, присоединившимся к проекту, стала Маргарет Этвуд, в мае 2015 года она передала рукопись романа «Летописец Луны» (англ. Scribbler Moon).
2015 — Вторым участником стал писатель Дэвид Митчелл, который в мае 2016 года передал рукопись романа «Я источаю то, что вы называете временем» (англ. From Me Flows What You Call Time). Это единственная книга из Библиотеки будущего, о которой известно хоть что-то: Дэвид Митчелл «случайно» упомянул деталь, что в его книге цитируются слова из песни «Here Comes the Sun», которая, к моменту выхода книги перейдет в общественное достояние.
2016 — Третьим участником проекта стал исландский писатель Сьон Сигурдссон, который в мае 2017 года передал библиотеке рукопись своего романа под названием «Как мои брови касаются туник ангелов или падающей башни, американских горок, вращающихся чашек и других инструментов поклонения постиндустриальной агротехники» (англ. As My Brow Brushes On The Tunics Of Angels or The Drop Tower, the Roller Coaster, the Whirling Cups and other Instruments of Worship from the Post-Industrial Age).
2017 — Четвертым участником проекта стала турецкая писательница Элиф Шафак с романом «Последнее табу» (англ. The Last Taboo).
2018 — Пятой к проекту присоединилась южнокорейская писательница Хан Ган (ныне это лауреат Нобелевской премии) с романом «Дорогой сынок, мой любимый» (англ. Dear Son, My Beloved).
2019 — Шестым участником стал норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор с романом «Слепая книга» (англ. Blind Book).
2020 — Седьмым участником стал американский писатель вьетнамского происхождения Оушен Вуонг с романом «Король Филипп» (англ. King Philip).
2021 — Восьмым участником стала писательница из Зимбабве Цици Дангарембга с романом «Нарини и её ослик» (англ. Narini and Her Donkey).
2022 — Девятым участником стала немецкая писательница Юдит Шалански с романом «Пух и Осколки: Хроника» (англ. Fluff and Splinters: A Chronicle).
2023 — Десятым участником стала мексикано-американская писательница Валерия Луиселли с романом «Сила Резонанса» (англ. The Force of Resonance).
2024 — Одиннадцатым участником стал американский писатель Томми Ориндж.