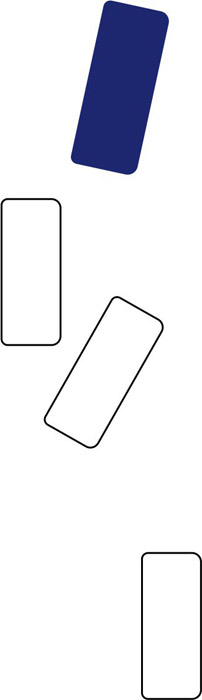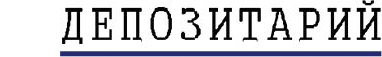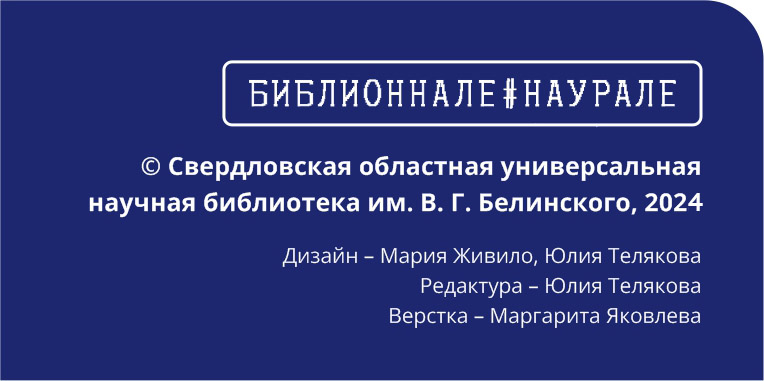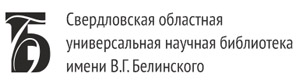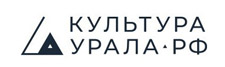По Уралу
ШРИФТШТЕЛЛЕР РОДОМ ИЗ СОСЬВЫ
Неочевидные литературные места Урала
Тиффани Кексель
библиотекарь Свердловского регионального центра Президентской библиотеки, студентка факультета русской филологии Государственного университета просвещения (Московская обл.)
«Теплая осень в этом году, для урожая хорошо, подумала Надежда Ивановна.
В Славе сейчас картошку копают, уже первые костры задымились, ботву жгут.
Вот как ботву начинают жечь, так значит и пришло бесповоротно это время,
когда дни на убыль идут»
Ойген Руге «Дни убывающего света»
Прогулки по литературным местам в общем-то достаточно популярный вид досуга. Однако интерес к биографии любимого писателя и желание приобщиться к культурному наследию не всегда приводят нас в дома-музеи с благоустроенными скверами на прилегающей территории, да и про мощеные мостовые, по которым в свое время ходил тот самый автор, приходится забыть. Иногда писательские места – это десять часов на электричке вглубь области, постепенно пустеющие вагоны, стук колес и какая-то непривычная для поезда неуютность, вместо колючих рждшных пледов в дороге приходится кутаться в пальто… Так думала я, отправляясь в посёлок Сосьва, где семьдесят лет назад родился известный немецкий писатель (Schriftsteller) – Ойген (Eugen, Евгений) Руге.
«Когда переводили на немецкий мое свидетельство о рождении, переводчик неправильно прочитал название города и записал его так: «Салва». Конечно, «Салва» – это полная ерунда, нет такого города, да и смысла это название не несет. Но потом мне пришла в голову мысль переставить две буквы местами, получилась «Слава», и сразу же возникала ирония. Эта дыра превратилась в город с названием «Слава»», – рассказывал Ойген Руге в одном своем интервью.
Меня же в Сосьве-Славе встретила дощатая платформа, от которой к выходу вели несколько тропинок. Растерянность. За спиной рюкзак, в кармане порядком измятого пальто книга, в руках телефон с бессильным уведомлением «машин не найдено». Положение спасает средних лет мужчина с потрепанным чемоданом.
– Заблудились?
– Да нет, мне к гостинице.
– А, так это вам пути перейти надо, мне в ту же сторону, проводить?
«Тиффани, с Сосьвой – это авантюра. Осторожны будьте, пожалуйста».
– Да, пожалуйста.
По дороге (как потом окажется, одной из немногих настоящих асфальтированных дорог в Сосьве) рассказываю, что же привело меня в этот глухой городишко…
В сущности, первая мысль о поездке в Сосьву появилась еще в Москве, прямо на лекции (да простят мне преподаватели привычку гуглить на парах), Екатеринбург тогда уже не был terra incognita, так что «Родился в поселке городского типа Сосьва Свердловской области» звучало будто бы как достаточное основание для предполагаемой поездки. Тем более, если речь идет о современном немецком писателе. Когда еще такое случится!
Ойген Руге действительно родился в вышеуказанном посёлке (сколько раз за те два дня я приводила одну и ту же выдержку из Большой российской энциклопедии!) в 1954 году, а в 1956, в возрасте двух лет, когда его отцу (в будущем видному немецкому историку) Вольфгангу Руге позволили вернуться в Германию, переехал с родителями в ГДР.
Писать Ойген Руге начал поздно, дебютный роман «Дни убывающего света» («In Zeiten des abnehmenden Lichts») был опубликован в 2011 году, когда писателю исполнилось 57 лет. Впрочем, зато у Руге было время осмыслить прошлое. Роман сразу привлек внимание широкой аудитории и был удостоен большого количества престижных немецких премий, включая премию Альфреда Дёблина за незаконченную рукопись в 2009-м и Немецкую книжную премию «немецкий букер» в 2011-м. Критики окрестили его «Будденброками из ГДР», введя роман в галерею семейных саг, отметив специфические «будденброковские» мотивы увядания рода и разрыва связи между поколениями. Роман обращен к истории четырех поколений семьи Умницер-Повиляйт (здесь показательно посвящение романа: «для всех вас»), каждое из которых, сохраняя и поддерживая формальные родственные связи, отдаляется друг от друга и от политических идеалов, играющих в социалистической утопии Руге немалую роль.
При этом все знаковые события исторического процесса прошлого века оказываются за кадром, в фокусе внимания автора не «большая история», но частные впечатления отдельных людей. На первый план выходят оценки, ощущения, воспоминания. Руге реконструирует семейную память, восстанавливает пробелы в семейной истории.
Немалая роль в повествовании отводится русской теме, представленной двумя поколениями женщин в семье Умницер – Ириной и ее матерью Надеждой Ивановной, каждая из которых по-своему так и не смогла интегрироваться в немецкий быт. Ярче, конечно, этот разрыв со средой проявляется в образе Надежды Ивановны, русской бабушки, за годы жизни в ГДР так и не выучившей немецкий язык, в целом уважающей быт и нравы принявшей ее страны, ценящей немецкую родню. Но существует при этом бабушка в своем замкнутом мирке, ограниченном комнатой (одной-единственной комнатой в доме) и разведенным в саду огородом, где она выращивает огурцы. В сущности, для создания этого образа Руге обратился к воспоминаниям о собственной бабушке (никогда Сосьву-Славу не покидавшей), задавшись вопросом, что бы чувствовала и думала она, если бы ее внук сбежал в ФРГ.
Другой персонаж, приведший меня в итоге в Сосьву – Курт Умницер, за ним считывается достаточно легко отец Ойгена Руге, немецкий историк Вольфганг Руге, учившийся в Москве и в конце 1930-х оказавшийся в ссылке на Северном Урале. Именно по следам ссыльных немцев, следам СевУралЛАГа, заводов и лесопилок, предполагала я поездку в поселок, до последних лет существовавший за счет исправительных колоний, «градообразующих предприятий» в местах не столь отдаленных…
Идем по центральной улице. Улице Ленина. Мой попутчик повторяет под нос: «Ойген Руге, Ойген… Как вы сказали? Руге? Надо не забыть, хоть почитаю, кто такой».
Мне повезло, до гостиницы меня провожал человек, работавший в колониях: «Я уже давно на пенсии, да впрочем…». После «впрочем» воспоминания, рассказ о том, как год назад сгорела последняя колония, как раз осенью, как раз когда жгут картофельную ботву.
Утром – прогулка по городу, рюкзак за спиной, книга подмышкой. Дома – сплошь одноэтажная застройка, покосившиеся избы с серыми, покрытыми лишайником, крышами. На улицах ни души, оно и понятно, хотя в отличие от Екатеринбурга, снег до Сосьвы еще не добрался, лужи по утрам покрыты коркой льда. При всей бедности поселка бросаются в глаза поленницы у домов, сплошь береза и сосна, стойкий запах смолы от дров, такими бы камин топить…
Редкие прохожие не могут мне ничего рассказать, кто-то отмахивается, кто-то пожимает плечами, продавщица в местном ларьке качает головой: «Как, говорите? СевУралЛАГ, лагеря и лагеря, ну, колонии потом. Вам это интересно, вы, вон, ученая. А мне-то что? Сосьва и Сосьва, я и в школе так себе училась, на тройки».
Совсем под вечер – в церковь. Лучшая моя идея. Маленький светлый храм (позже выяснится, что строили его местные жители своими силами), где даже приезжей, без платка и в невнятных джинсах, нашлось место.
Утром следующего дня – туда же, к концу службы, когда «старейшины» поселка собираются в трапезной. Людмила Геннадьевна, опрятная беловолосая пенсионерка, представляет меня собравшимся (писательницей, журналисткой, ученой… кем я за эти дни только не побывала!), так я оказываюсь в кругу женщин, обычных таких, тех, о которых Ойген Руге говорил: «Не обязательно иметь русскую бабушку, но обязательно нужно иметь опыт общения с ней». Им ведь есть, что рассказать…
Про немецких солдат, которые кормили местных детей кашей: «Мы с лопухом свернутым подходили… Вот они прям туда». Про то, как наоборот пленных здесь угощали картошкой: «Хлеба не было, по карточкам только, так женщины им картошку». Удивительные истории взаимопомощи, воспоминания о сосьвинском быте: «Поселок ожил, когда появился завод, потом колонии… Лесозаготовки пошли». Воспоминания эти были в общем-то путанные. Александра Саввовна, самая пожилая из моих собеседниц, справедливо заметила, что все это разговор для неторопливого тихого вечера, тогда и вспомнится больше, сложится какая-никакая повествовательная канва.
– Вы на машине?
Не прошло и пятнадцати минут, а я уже сижу на переднем сиденье «семейного» автомобиля Ларисы Геннадьевны Греф. В который раз пересказываю свою историю. Студентка. Библиотекарь. Исследователь. Интересуюсь историей репрессированных немцев, исследую творчество немецкого писателя, Вашего земляка.
– Вам с Виталием Андреевичем надо познакомиться, вот кто расскажет, он же живая энциклопедия! Я ему позвоню.
Спустя полчаса к нам присоединяется Виталий Андреевич, пожилой уже человек, перебирающий вслух, куда можно съездить: набережная, где раньше располагался завод, построенные заключенными дома, заброшенное немецкое кладбище (до него так и не добрались, говорят, оно уже заросло, только встречаются время от времени кресты между деревьями). «Экскурсии» стараюсь не мешать, но запрос конкретизирую.
– Руге? Помню такого, по его рисунку наш дом строили. У нас сруб был, а как строить не могли понять, так по его рисунку рабочие дом и строили.
До дома мы не доехали. Да и было бы что смотреть, перестраивали его с тех пор не раз. Но немцев здесь помнят только добрым словом. Сложилось впечатление, что Руге и подобные ему ссыльные в свое время задавали тон в культурном плане, косвенно об этом говорится и в книге, когда Надежда Ивановна рассуждает о зяте: «Хороший человек Курт, всегда вежливый, всегда по имени-отчеству, Ире повезло, такого мужчину найти <...> он хоть и сидел в лагере, из «бывших», но она уже и в Славе приметила, что «бывшие» были люди порядочные, порядочнее, чем лагерное начальство, пьяная сволочь». Вольфганг Руге мог сделать проект дома, его друг, Павел Августович Ладский занимался с местными музыкой и немецким. В поселке много людей с немецкими фамилиями.
В романе Сосьва-Слава представлена мрачным уголком, воспоминания о котором радуют разве что оторванную от немецкого общества Надежду Ивановну и романное альтер-эго Ойгена Руге – Сашу. Впоследствии писатель признавался, что для него самого это было: «вылазкой в идеальные для ребенка условия. В Сосьве были свиньи и коровы, там можно было вскарабкаться на крышу, там была собака – та знаменитая собака, получившая в романе кличку «Дружба». Для меня это было настоящее приключение». Таким же приключением Сосьва становится и для литературоведа-любителя, она даёт прикосновение к истории почти случайное, оттого даже более ценное.

«НА УЛИЦЕ САККО-ВАНЦЕТТИ МОЙ ДОМ 22»
Правда о том, что представляло собой то самое здание, в котором жил в уральской столице Александр Башлачев и затем романтично его увековечил в своей знаменитой балладе о любви «Поезд»
Андрей Дуняшин
писатель-публицист, журналист, в издательской серии «Жизнь замечательных уральцев» в 2022 году опубликовал биографию соратника маршала Жукова, генерала армии Ивана Федюнинского
Друг и сокурсник Александра Башлачева по журфаку, в настоящее время работает над биографической книгой о нём, основанной на личных воспоминаниях и свидетельствах тех, кто близко знал Сашбаша.
Мы публикуем фрагмент одной из глав, посвященной уральскому периоду жизни уникального поэта эпохи расцвета русского рока, и выражаем автору благодарность за любезно предоставленный текст из будущей книги.
Любовь – это мой заколдованный дом,
И двое, что все еще спят там вдвоем.
На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22.
Они еще спят, но они еще помнят слова.
Любовь – это поезд Свердловск-Ленинград и назад.
Тогда я толком так и не понял, как этот заброшенный дом оказался в распоряжении студентов. Потом меня посвятил в его историю декан журфака Борис Николаевич Лозовский. Оказывается, в университет пришли активисты Всероссийского общества памятников истории и культуры, обеспокоенные незавидной судьбой памятника деревянного зодчества. К сожалению, Свердловск-Екатеринбург потерял немало объектов культурного наследия. Так вот, они предложили пожить в этом особняке, некогда принадлежавшем семье известных купцов Агафуровых, студентам, чтобы те присмотрели за усадьбой. Многие студенты, особенно семейные, действительно маялись без жилья. Поэтому желающие пожить там нашлись. Они не представляли, в каких условиях им придётся существовать ради получения диплома.
Кроме журфаковцев там обосновались историки, математики, философы. Вспоминает театральный критик и переводчик Алексей Кокин, в 1982 году – аспирант исторического факультета.
– Мне досталась большая парадная комната на втором этаже, в которой имелась старая кровать с панцирной сеткой. Старшее поколение их хорошо помнит, – рассказывает бывший сосед Башлыка. – Дом находился в крайне запущенном состоянии. На Центральном рынке купил матрац и пошёл обустраиваться. Электричества нет, парадный вход заколочен. Пришлось пробираться с чёрного хода. В тёмном коридоре светил только золотой зуб какого-то нетрезвого парня. Он увидел меня и подошёл. Не поздоровавшись, ошарашил вопросом: «А вы читали книгу Ричарда Олдингтона «Все люди – говно»? Незнакомцем оказался Саша Башлачёв. Можно ли забыть человека, с которым я познакомился подобным образом?
Действительно, сверкающая фикса Башлыка запомнилась при знакомстве с ним едва ли не всем. Она бросалась в глаза. Тем более, в коридорной полутьме она блистала, как сигнальный огонь. Не могло не ошеломить и филологическое любопытство незнакомца. Но роман известного английского писателя называется по-другому – «Все люди – враги». Она посвящена потерянному поколению солдат, участвовавших в Первой мировой войне. Однако и Алексей Кокин ничего не путает. Как же так? На мой взгляд, всё объясняется склонностью Башлыка к тому, что сегодня называется стёбом. В воспоминаниях многих его знакомых такие случаи встречаются. К тому же, полагаю, это был один из приступов Шуриного разочарования во всех и во всём, что потом с ним случалось.
– Впрочем, наши отношения с ним носили в основном бытовой характер. По-соседски можно было занять картошечки, заварки для чая или дров, считавшихся почти местной валютой, - продолжает Алексей Кокин. - Мы оба имели гитары. У Башлачёва какая-то простая «фанера», а у меня Musima производства ГДР, которой я очень гордился. Должен заметить, играл он в то время очень плохо. Конечно, тогда я не мог представить, с кем мне довелось жить в одном доме. Могу утверждать почти на сто процентов, что этого тогда никто не знал. Я дружил со многими представителями свердловского рока, но о Башлачёве никто из них не слышал. Это была корпоративная среда, куда зайти было достаточно сложно. В 1983 году Саша съехал, и вскоре я остался в доме один.
Не могу не привести ещё одно воспоминание А. Кокина, хотя оно перенесёт нас на шесть лет вперёд. Но оно, на мой взгляд, здесь вполне уместно.
– О его смерти я узнал совершенно случайно, – отмечает бывший историк-аспирант. – В конце восьмидесятых годов прошлого века в СССР все зачитывались «Огоньком», самым популярным журналом перестроечной поры. Я его выписывал, читал от корки до корки и однажды наткнулся на публикацию, связанную с гибелью Саши. Увидел фотографию и вдруг понял: я его знаю. В тот момент я просто обалдел. Полагаю, что главная загадка Башлачёва заключается в том, как за такое короткое время из «урлы», вчерашнего студента он превратился в Поэта с большой буквы. Природа этого дара абсолютно непонятна. А дом на улице Сакко и Ванцетти снится мне до сих пор.
Да, уверен, этот дом памятен многим. Кто-то нарёк его «вороньей слободкой», и это название за ним закрепилось.
Кроме Пучкова и Башлачёва в нём поселились несколько студентов факультета журналистики. Сашин однокурсник Володя Кем с женой Натальей, чета ещё одного его однокашника Юры Мазия.
Как уже говорилось, дом пребывал в плачевном состоянии. К примеру, батареи центрального отопления полопались предшествующей зимой, поскольку в здании хозяйничала стужа: двери не закрывались, стекла на окнах не хватало. Спасались печками. Но где взять топливо? А. Кокин припомнил, что ходили на ближайшую стройку, где «тырили» торфобрикеты, с помощью которых рабочие варили битум. Стройка поставляла обрезки досок, брошенные поддоны и вообще многие горючие материалы. Компания журфаковцев ходила за добычей топлива, как правило, поздним вечером. Это было заморочное занятие: много за один раз не утащишь, а потребность, скажем, в древесине была большой.
Вообще топили, чем придётся. Недалеко нашли продуктовый магазин. Некоторые товары там получали в картонных коробках. Продавцам они мешали. И, договорившись с ними, Башлык таскал оттуда горы упаковки. Пару раз я ходил с ним и Женькой. Скажу вам, занятие это не из лёгких.
Ещё одна проблема – электричество, точнее, его отсутствие. От сети дом купцов Агафуровых давно отключили. Спас доуниверситетский опыт Мазия – когда-то он работал электриком. Ему удалось восстановить электроснабжение. Однако коммунальщики особняк регулярно отключали. Тогда Юра с помощью монтажных «кошек» забирался на деревянный столб и подавал энергию. После такой операции ему аплодировали, воспринимая местным Прометеем.
Обстановка в комнате в два окна, где жили Пучков и Башлачёв, напоминала декорации к фильму примерно с таким названием: «Быт уральского рабочего накануне Первой русской революции». Кровать Башлачёв устроил из подручных материалов: на ящики из-под бутылок взгромоздил невесть откуда притащенную дверь. На этом ложе он и отдавался объятиям Морфея. В углу стоял старый комод. Имелись две или три табуретки, причём одна колченогая. Безусловно, важнейшее место в комнате принадлежало электроплитке, на которой изредка друзья что-то жарили, чаще всего картошку.
Пучков, помнится, спал на арендованной раскладушке.
Когда я впервые появился в доме № 22, честно говоря, ужаснулся состоянию этого памятника архитектуры. С Пучковым мы приехали туда после четвёртой пары, под вечер. Удивительно, но здесь, на улице Сакко и Ванцетти, в двух шагах от центра Свердловска сохранился уголок уездного города на рубеже ХIX и ХХ веков. Невдалеке высились многоэтажки, а тут – патриархальный пейзаж из прошлого. В начале ноября смеркается рано. Под ногами скрипел уже выпавший снег, на котором жёлтыми неяркими кругляшами отражался свет уличных фонарей. В коридоре дома, куда мы проникли через чёрный ход, царил мрак. На ощупь доковыляли до двери. К счастью, в комнате свет был – электричество Мазий подключил накануне. Осмотрев жилище друзей, я спросил Башлачёва:
– Шура, у Женьки жилья нет, с ним всё понятно. А тебе-то зачем эта халабуда, если ты был хозяином боковушки?
– Понимаешь, старик, здесь свобода… – и он театрально воздел руки к потолку, на котором, кстати, сохранились фрагменты росписи.
…Несмотря на спартанские условия, жили весело. Причём, все. Особенно резвились историки.
Журналисты вели себя скромнее. Семейные берегли очаг. Компании же собирались в комнате у Башлачёва. В основном это были те же лица, с которыми он успел подружиться за студенческие годы. Хотя, признаться, такое случалось нечасто. Башлачёв до вечера пропадал в универе, где у него всегда находилось множество дел.
В середине мая я защитил диплом. Башлык попался мне на четвёртом этаже после какого-то зачёта. Он торопился покурить, попутно раздавая советы однокурсникам, как отвечать на билеты.
– Шура, я только что защитился! Шура! Ты не представляешь, какой свалился груз с плеч! – тряс я его.
– Так поедем ко мне, – предложил Башлык.
– А поедем!
К нам присоединился Валера Менделевич, с которым связывали особенно тёплые отношения. Подтянулся Пучков. По-моему, прицепился кто-то ещё. Словом, мы отправились дружной компанией в деревянный особнячок. По дороге зашли в магазин. Сами понимаете, что мы прикупили.
– А зачем сидеть в комнате? – воскликнул Шура, когда мы подошли к дому. – Давайте во дворе. Запалим костерок, там и поболтаем.
А действительно, зачем? Как я уже говорил, усадьба Агафуровых находилась в удивительном месте – в двух шагах от центральной улицы и в то же время в укромном уголке. Дом окружал маленький садик, скрытый забором от посторонних глаз. Пасторальная идиллия...
Мы расположились на лежавших там валунах, видимо, служивших когда-то частью ландшафтного дизайна старинного домохозяйства. Кажется, там валялись ещё покрышки.
Каждому, кто сдавал сессию, а тем более защищал диплом, знакомо это состояние: вдруг наваливается чувство опустошённости, когда никуда не надо спешить, вчитываться в учебники, судорожно перелистывать конспекты. С этим ощущением я начал подпаливать костёр.
Когда язычки пламени начали уверенно поглощать предварительно переломанные доски, все расселись вокруг огня.
Как я узнал позже, такие посиделки уже следующей весной, когда Башлык заканчивал пятый курс, случались в садочке его дома не раз. Ирина Горбачёва, работавшая со мною в «На смену!», рассказывала, что в костре они даже пекли картошку. Что тут скажешь, романтично…
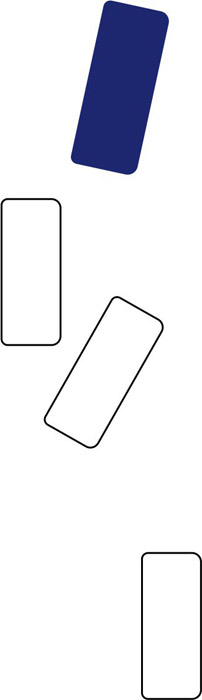

КНИГА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ 90 ЛЕТ
Впервые издана «Переписка Д.Н. Мамина-Сибиряка»
Анна Кузьмина
литературный критик, администратор телеграм-канала «Библиотека им. В.Г. Белинского (Белинка)» и дзен-канала «Белинка. О книгах»
Рукопись, пропавшая дважды
У этой книги долгая и драматическая судьба. Издать письма Д.Н. Мамина-Сибиряка задумал еще в 1930-е годы его племянник литературовед Борис Дмитриевич Удинцев. В 1941 году двухтомное издание было составлено, откомментировано и отправлено в Москву, но во время эвакуации фондов Государственного литературного музея рукопись была потеряна. После войны Удинцев за три-четыре года восстановил книгу. Однако в этот раз издание запретила цензура: переписку критиковали за «безыдейность и аполитичность комментариев», а позже (после того как составитель переработал книгу в соответствии с идеологическими требованиями) рукопись – снова потеряли!
Завершить дело Бориса Удинцева взялся его потомок Иван Югов. Чтобы восстановить утраченную рукопись, пришлось в течение трех лет собирать разрозненные материалы по разным библиотекам и архивам страны, перепроверять данные. Кроме Ивана Владимировича, в подготовке издания приняла участие Ольга Удинцева, а также сотрудники центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН: доктор филологических наук, профессор Елена Созина (консультант издания) и Татьяна Арсёнова (редактор).
В результате книга получилась даже более полная и объективная, чем она задумывалась в 1930-40-е годы (без идеологических клише и с найденными в ходе работы неизвестными письмами). При этом составители подчеркивают, что вышедшая теперь «Переписка» является не более, чем «реконструкцией издательского замысла»: по возможности сохранены комментарии и примечания Бориса Удинцева, опубликовано и подготовленное им когда-то предисловие (краткий вариант). Предваряет издание очерк жизни самого Бориса Дмитриевича. Правовед, экономист, библиограф, литературовед, он успел сделать немало, в том числе, для сохранения и изучения наследия Мамина-Сибиряка (другое дело, что по разным причинам многие его работы не были опубликованы). Завершая рассказ о судьбе Бориса Удинцева, авторы очерка, Валентин Лукьянин и Елена Полевичек, между прочим, дают весьма точную и парадоксальную характеристику всей книге: «издаваемое сейчас собрание писем Мамина-Сибиряка читатель вправе считать вторым (как водится, «исправленным и дополненным») изданием созданного Б.Д. Удинцевым двухтомника, хотя первого издания и не было».
Укажем еще один драматический факт из истории «Переписки»: нынешнему изданию снова (в который раз!) грозило остаться неопубликованным – на этот раз из-за финансовых трудностей. Чтобы выпустить книгу, Иван Югов запустил краудфандинговую кампанию на сервисе Planeta.ru. В народном сборе средств приняло участие более 200 человек. Так, спустя 90 лет с момента замысла, книга, наконец, дошла до читателей!
Зачем читать чужие письма?
Первый том собрания писем Мамина-Сибиряка составляет более тысячи страниц и содержит переписку уральского писателя с родственниками. Важно понимать, что письма Дмитрия Наркисовича отличаются от эпистолярных опытов Толстого или Тургенева – вы не найдете в них пространных философских размышлений или рассуждений о литературе. Это биографические тексты, по которым можно проследить судьбу уральского писателя и увидеть нюансы его отношений с родственниками, друзьями, знакомыми. У Мамина было три главных адресата: мать, сестра и младший брат Владимир. Матери он писал всю жизнь (из тысячи писем, адресованных матери, сохранилось более 700): книга начинается трогательными посланиями, которые юный Дмитрий шлет из Пермской духовной семинарии, а заканчивается письмами зрелого писателя, отправленными ей из «болота» – Петербурга, где он прожил последние годы. По этим текстам можно проследить всю бытовую историю Мамина: где он был, куда ездил, с кем виделся, что ел, чем болел и пр. В письмах к матери Дмитрий Наркисович неизменно почтителен. Совсем иные отношения у писателя с другими родственниками. С сестрой Елизаветой он нежен и откровенен, с братом Владимиром – строг и снисходителен, часто отчитывает его за безрассудство. Таким образом, «Переписка» позволяет составить объемный портрет личности Мамина-Сибиряка. При этом не стоит бояться увидеть «темные» стороны интимной жизни писателя: в своих письмах он редко позволяет себе резкие оценки, напротив, в текстах преобладает светлое настроение, Дмитрий Наркисович не скупится на выражение благодарности и уважения адресатам.
Зачем еще читать письма Мамина? Кроме безусловной биографической ценности, «Переписка» представляет интерес и как документ эпохи. В письмах уральского писателя отразились особенности бурного и противоречивого времени рубежа 19-20 вв., так что книга может быть весьма полезной для краеведов и историков.
Важность «Переписки»
О значении Мамина-Сибиряка для Урала много говорили на презентации книги, которая состоялась этим летом в Белинке. Ведь, по сути, именно с произведений Дмитрия Наркисовича началась история Урала как уникального региона – со своей особенной историей, культурой, идентичностью. При этом, как ни прискорбно, первый уральский писатель до сих пор толком не прочитан, а многие его произведения остаются не изданными (из 600 наименований в полной библиографии писателя опубликовано чуть больше трети). Не раз гости, участвовавшие в презентации, сетовали на равнодушное отношение властей к наследию Мамина-Сибиряка. Так, из-за финансовых проблем остановлено издание полного собрания сочинений писателя, начатое еще в 2002 году (последний, 5-й том, вышел в 2012 году). Хотя, как показывает успешная краудфандинговая компания, уральцы помнят и любят Мамина-Сибиряка, с интересом читают его книги и следят за новыми изданиями.
Что дальше
Работа над «Перепиской Д.Н. Мамина-Сибиряка» продолжается. Во второй том издания войдут письма Дмитрия Наркисовича известным и малоизвестным писателям, редакторам, издателям, друзьям и знакомым. Составители книги, однако, выражают осторожную надежду на то, что издание второго тома будет осуществлено не только с «народной помощью», но и при поддержке государства.
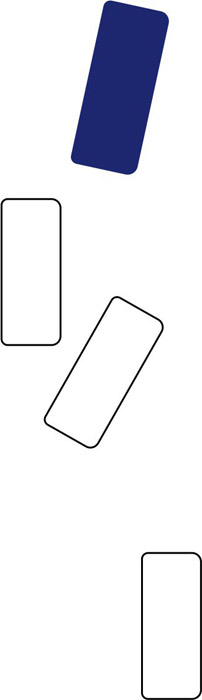

СРЕДНИЙ УРАЛ ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ
В подборку включены мини-эссе иностранных студентов, являющихся читателями Белинки. Материалы написаны по просьбе библиотекарей и подготовлены сотрудниками Отдела литературы на иностранных языках.
Владимир Каменечки, Хорватия
Как я очутился в чудесном городе Екатеринбурге? Я гражданин небольшой страны Хорватии, которая расположена в юго-восточной части Балкан. Я приехал в Екатеринбург, чтобы получить образование, поступив на степень бакалавра машиностроения в известный университет УрФУ. Я уроженец портового города под названием Риека, который раньше был всемирно известен тяжелой промышленностью и производством кораблей.
Основное отличие моего родного города Риека от Екатеринбурга – это море, то есть отсутствие моря, а кроме того, в Екатеринбурге проживает почти половина населения моей страны, поэтому размеры и габарит города были одними из первых впечатлений, которые остались в моих воспоминаниях. Несмотря на то, что я родился и вырос на побережье Адриатического моря, в Екатеринбурге я нашел свою отдушину в многочисленных озерах, из которых мое любимое – Шарташ, которое находится всего в 15 минутах ходьбы от моего общежития. Это озеро является моим любимым местом в городе.
Мне, как первому представителю своей страны в университете УрФУ, поначалу было трудно, потому что все вокруг были незнакомыми и далекими людьми, но мне удалось найти свой путь благодаря многочисленным мероприятиям и молодежным организациям.
О том, что Екатеринбург и Россия произвели на меня большое впечатление за два с половиной года моего пребывания здесь, свидетельствует тот факт, что я нашел работу и устроился на завод горного оборудования УЗТМ, где работаю инженером по обслуживанию рабочего оборудования, а кроме того я продолжил свое образование в аспирантуре, где исследую и изучаю проблемы, связанные с производством мелкоразмерных бесшовных труб.
И да, чуть не забыл представиться, меня зовут Владимир Каменечки. Мое имя изначально хорватское, потому что мы, как и русские, принадлежим к славянским народам и у нас схожий язык и культура, и в то же время некоторые имена, подобные моему, широко используются. Интересен тот факт, что в Хорватии одно из наиболее популярных имен — Иван, который мы сокращаем как Иво, и у меня есть 7 близких друзей по имени Иван.
Данвич Дугандага, Габон
Меня зовут Дугандага Сосси Рене Данвич, я габонец, то есть я родом из Габона. Габон – это африканская страна, расположенная в центре Африки и пересекаемая экватором. Я заканчиваю второй курс аспирантуры по специальности «Информационные технологии и телекоммуникации», а точнее по системному анализу, управлению и обработке информации. Я преподаю иностранные языки более 13 лет. Я преподаю французский, английский и русский языки. Я намерен создать платформу для изучения европейских и африканских языков, чтобы помочь любителям языков иметь больше возможностей изучать язык по своему выбору в спокойной и очень комфортной обстановке.
Я приехал в Екатеринбург 18 октября 2014 года и живу здесь уже 9 лет. Я приехал в Екатеринбург благодаря стипендиям сотрудничества, которые Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно предоставляет иностранным студентам. Получив эту стипендию в Уральском федеральном университете, я обустроился в этом замечательном городе. Я всегда хотел изучать информатику и телекоммуникации, и когда я узнал, что в Российской Федерации можно учиться за государственный счет, я воспользовался этой возможностью и подал заявку на получение стипендии в той области, которая определила мою будущую профессиональную карьеру. Подав заявление, через несколько месяцев я узнал, что меня выбрали для учебы в Российской Федерации, на Большом Урале в Екатеринбурге, и с тех пор я и живу, учусь и работаю.
Моими любимыми местами, за исключением мест, где я люблю проводить больше времени, являются моя комната в общежитии – моя зона комфорта и безопасности, церковь – место, которое позволяет мне духовно расти в компании братьев и сестер по вере, и торговый центр Гринвич – моя зона комфорта, развлечения и смены идей.
Мой родной город – это Либревиль, столица Габона. Архитектура, менталитет населения, стоимость жизни и возможности трудоустройства – это то, что определяет очень большую разницу между Либревилем и Екатеринбургом. Архитектура Екатеринбурга гораздо более развита, чем архитектура Либревиля. В Либревиле население более жизнерадостное и дружелюбное, чем в Екатеринбурге. Стоимость жизни в Екатеринбурге очень высока по сравнению с Либревилем. И, наконец, в Екатеринбурге есть больше возможностей для работы, чем в Либревиле.
Приехав в Екатеринбург, я был удивлен многим, но больше всего меня удивил тот факт, что молодые девушки без стеснения курят на улице, что женщины пожилого возраста продают проездные билеты в общественном транспорте, что в Екатеринбурге есть больше преподавательниц в университетах и школах и тот факт, что большинство молодых людей вступают в брак в возрасте от 23 и даже от 20 лет. Почему я был удивлен разницей? Просто, потому что в нашей культуре такого рода вещей не существует, по крайней мере, так было еще 9 лет назад, потому что я не знаю, изменился ли за это время менталитет жителей Либревиля.
Ли Сунпэн, Китай
Меня зовут Ли Сунпэн. Я из Китая, из провинции Хэнань, города Лохэ. Я живу в Екатеринбурге уже больше 5 лет. Здесь я окончил подфак, бакалавриат, и сейчас учусь на первом курсе магистратуры УрФУ по направлению «Методика преподавания РКИ». По-моему, Екатеринбург – город, наполненный культурой и историей. В нём достаточно много достопримечательностей, например: Храм-на-Крови, Граница Европы и Азии, «Высоцкий», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Памятник клавиатуре и т. д. Во всех этих местах я был. Но мое любимое место в Екб – Площадь 1905 года. Я обожаю сидеть там на скамейке, смотреть на то, как люди кормят голубей, наслаждаться сверкающими бликами на поверхности реки Исеть, смотреть выступление уличных художников. Все это часто происходит летом. А зимой тут вообще другой вид. Над рекой только лед. Река Исеть вся покрыта снегом. Люди только потихоньку переходят через нее. Мой город Лохэ – небольшой город, но он тоже является культурным центром. Приехав сюда, сразу же заметил разницу – зима здесь более дикая, иногда даже -30 получается, а в моем городе – -5. Хотя так получилось, зимой мне приятнее здесь жить, суть в том, что здесь повсюду обеспечивается отопление. В помещениях даже нормально хожу в футболке. А у меня дома его нет. Если у нас есть желание и мы не боимся расточительства, мы можем смонтировать кондиционер и его включать во время холодной зимы в Китае. Но скорее всего не будем так делать. В Екб меня сильно поразило, как вообще погода так изменяется, особенно летом. Ещё и вежливые водители на дорогах – большинство из них без обиды ждёт переход людей. Кроме этого, за этот немалый период я успел пообщаться с русскими. Разговор с ними помогает мне отвергнуть неправильные стереотипы, которые часто существуют в сердцах иностранцев. Короче, народ тут не такой равнодушный, как погода в Сибири. Наоборот, люди добродушные, дружеские. Мне нравится Екатеринбург.
Фидель Депаз, Перу
Что делает место твоим домом? – этим вопросом я задавался весь последний месяц. Вы скажете: «Что это за странный вопрос? Это то место, где ты живешь». Но что, если место, где ты привык жить, находится за сотни километров от тебя?
Меня зовут Фидель Депас Эчеверриа, я вырос в большой семье в Перу, рядом с морем, пляжем и песком. Я ел севиче, виделся с друзьями, и, конечно, много работал. С детства родители учили меня стремиться к большему, поэтому после того, как я закончил обучение по специальности «Аудиовизуальные коммуникации» в Папском католическом университете Перу в Лиме, я решил получить степень магистра. Угадайте, какую страну я выбрал для обучения?
Правильно, Россию! Причина такого выбора была простой: мои родители тоже учились в России, и я подумал, что раз они смогли сделать это, то и я смогу. Сложности начались потом, вместе с адаптацией к новой реальности. Врать не буду, когда ты покидаешь свою страну в первый раз, ты испытываешь смесь хороших эмоций и грусти; ты не знаешь, с чем тебе предстоит столкнуться, и сможешь ли ты справиться с этим. Так я прилетел в Екатеринбург, получив стипендию Россотрудничества и готовый учиться в УрФУ.
Первые месяцы были сложными. Выучить язык было трудно, особенно мои любимые падежи. Чувствуешь себя как ребенок, потому что нужно изучать с нуля, то, как двигается город, как совершать покупки и что есть. Отдельного упоминания заслуживает погода. Боже, выдержать температуру -40 градусов и не упасть в снег – это действительно игра с судьбой. Мое первое Рождество и Новый год здесь я встретил один, одиночество – это естественно, когда ты чувствуешь себя чужим в том месте, где находишься, и никто не приходит навестить тебя.
Вот как я провел свои первые месяцы в Екатеринбурге. Прошло полтора года с тех пор, как я прибыл в этот прекрасный город, и несмотря на то, что я все еще не уверен, какой падеж использовать, когда я говорю по-русски, я точно знаю на какой трамвай сесть, чтобы доехать до университета или куда пойти, если мне нужно купить что-то конкретное. Это выглядит просто, но для иностранца это – настоящее достижение. К холоду я теперь отношусь проще: по крайней мере, я могу кататься на коньках или сноуборде, а в Лиме этого нет.
Эта страна не перестает меня удивлять. В ней много лесов и озер, которые мне еще предстоит посетить. Улицы здесь гораздо безопаснее, чем в Латинской Америке, и это мне очень нравится. Со временем я привык к этому городу, в котором темнеет в четыре вечера и рассветает в девять утра, к его культурному разнообразию и гастрономическим возможностям.
Однако лучшее, что я нашел в Екатеринбурге – это мои друзья. Россияне, латиноамериканцы, африканцы, азиаты, европейцы – все они разные и со своими традициями, но они смогли сделать так, что я больше не чувствовал себя одиноким. Они поддержат меня, если мне это будет нужно, пойдут развлекаться вместе со мной, прогуляются со мной по озеру Шарташ, моему любимому месту, или просто поболтают со мной за чашечкой чая. Так что, если тебе, иностранцу, только что приехавшему в Россию, все еще кажется трудным и чуждым все это, наберись терпения. Я знаю, что ты приехал в этот город, чтобы исполнить свои мечты, поэтому неважно, то, как медленно ты идешь, важно то, что ты не останавливаешься, и в один день все изменится. Однажды этот город превратился из чужого города в мой город, мой дом, мой Екатеринбург.
Филлип Сивак, Канада
Привет, меня зовут Филлип! Я изучаю русский язык в УрФУ. Когда я жил в Канаде, я попробовал много разных профессий. Я работал в механической мастерской, на пасеке, в нескольких магазинах и был банковским кассиром. Я решил поступить в российский университет из-за своих русских корней. Я хотел узнать, совпадают ли стереотипы о России с реальностью. Так как моя мама родилась в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске), я решил, что это и будет тем местом, куда я отправлюсь. На данный момент я живу в Екатеринбурге три месяца и мне здесь очень нравится!
Мои любимые места в городе – это Плотинка и Площадь 1905 года. Несмотря на то, что эти места красивы сами по себе, они преображаются со сменой времен года. Мне понравилось, как ближе к Новому Году там разместили различные световые декорации, рядом с которыми можно было сделать фото. Затем прямо перед Новым Годом был построен потрясающий ледовый городок! Скульптуры, созданные разными мастерами, были замечательными, а горки и аттракционы для детей – это просто отличный способ провести время на улице во время каникул. Повсюду были небольшие избушки, в которых продавались различные вещи, и они были такие классные, что я должен был обойти их все. Я не был разочарован. Там я попробовал блины, и они были просто чудесные! До этого я никогда не пробовал глинтвейн, но он также оказался очень вкусным и согревающим. Вишенкой на торте стали старинная русская печь и самовар. Они сделали ледовый городок уникальным, потому что вряд ли такое можно увидеть где-то еще за пределами России.
Жизнь в Екатеринбурге действительно отличается от жизни в моем родном городе. Я из центрально-южной части Канады, которая не так густо заселена, как, например, Онтарио или Квебек. Поэтому размер города и количество людей в нем были действительно большой переменой для меня. Одной из самых удивительных вещей в городе для меня стало то, как близко друг к другу расположены супермаркеты. В моем городе обычно магазины находятся в одном здании только если это торговый центр, а здесь много зданий с кучей магазинов на первом этаже. Мне кажется, это очень удобно. Еще одна вещь, которая удивила меня, – это недостаток парковочных мест. Но это логично, учитывая то, что Екатеринбург – это гораздо более старый город, чем мой. Отсутствие парковочных мест, похоже, не беспокоит местных: трава, бордюры… Если есть пространство между деревьями, это место для парковки! Моя семья и друзья от души смеются, когда я рассказываю им об этом.
Пока что жизнь в России была просто потрясающей, и я с нетерпением хочу узнать, может ли она стать еще лучше здесь, в Екатеринбурге!
Приложение
НЕ ИСПУЖАЛСЯ
Крэйг Эштон (Craig Ashton)
автор бестселлера «Извините, я иностранец», блогер, постоянно живет в Петербурге, впервые побывал в Екатеринбурге в начале этого года, а 9 января провел встречу с читателями в Белинке
Орфография и пунктуация автора сохранены
Екатеринбург, спасибо! Нам с Алисой было очень приятно начать 2024-й у вас в гостях!
Три дня – немного времени, но успели к древнему Шигирскому идолу зайти, посетили Храм на Крови и Храм Вознесения Господня. Осмотрели город с высотыщи «Высоцкого», любовались красотой перемешки классических русских зданий с высокими, более азиатскими башнями.
А кроме этого мало успевали, увы. Но пельмени везде попробовал, вкусные, уральские, сытные :)
Было холодно. Зубасто холодно! Обожемоевская, докостейная стужа с пуховикопробиващими шквалами присланными самим Трескунцом.
Really quite cold, actually.
До ЕКБ, мне говорили, что «Там другой холод, Крэйг, без влажности, легче переносить, чем мороз в СПБ. Минус 16 в Питере, это как плюс 20 на Урале!». Или похожие слова.
Хочу сказать, что не согласен с этой концепцией. Мои до сих пор замороженные ресницы не согласны тоже.
Ну, наверное, хватит рассказывать русским о зиме…
Еще я узнал новое слово «испужаться» из книги Бажова про Хозяйку Медной горы.
В этой сказке очень много новых слов, которые не мог угадать по контексту. Сначала я думал – Алиса сунула мне книгу на сербском, как прикол. Увыочки, нет.
Зато получил полезное осознание – мне пора вернуться на уроки. И что надо заниматься старым русским языком. В нём важные корни и лингвистические и культурные. Люблю корни изучать!
У метро ЕКБ зелёный свет как у малахита. И главная станция называется «Геологическая». Мило ❤ Малахит и Хозяйку Медной горы уважают.
Так, а, что я заметил (можете поспорить, но я достаточно уверен) – екатеринбуржцы говорят тихо.
Везде.
В первый день мы сидели в кафе в торговом центре. В какой-то момент, я заметил что-то неладное (на самом деле, очень ладное! Я люблю, когда тихо) – мало шума было. Я смотрел вокруг на людей, все общались. Но было не слышно ничего. А я так хотел услышать местный говор! Но никак не мог услышать затишенные разговоры местных.
Я походил по центру, везде тихо. Таксисты тихие. В барах и аэропорту тихо говорят! Прямо как люди в храме шепчут, пока не пришел священник.
Есть шанс, что мне это только показалось... Но…
Я еще имел честь выступить в Ельцин Центре и Библиотеке им. В.Г. Белинского. Я до сих пор в восторге от этих встреч.
Большое спасибо Алексею и команде в ЕЦ. Организовали встречу за 5 дней, и получилось отлично. И спасибо за тур по музею. Мне стало ясно, что я смутно знаю историю страны и что надо снова открыть книги по истории.
В библиотеке мне дали возможность зайти в отдел редких книг. Дали белые перчатки и про почти каждую книги сказали (тихо, по манеру ЕКБ), «особенно детей эта очень интересует», что меня смущала, так как мне очень интересовали эти книги тоже. Дитя я инфантильный в итоге.
Но выступатель я зрелый… Встречи прошли хорошо. Еще раз спасибо всем, кто пришел общаться со мной! За вопросы и тёплый приём ❤ И за то, что не слишком высмеивали меня, когда я хвалил город за постоянную температуру и отсутствие гололёда. Выяснилось, что эти явления у вас тоже есть, я просто, к счастью, не застал. Очень приятно было с вами и вашим городом познакомиться!
Главное осознание – теперь хочу ехать в разные города! Золотое Кольцо, источники в Тюмени, воблу ловить в Астрахани, от медведей убежать на Камчатке. Надеюсь поехать во Владивосток, город о котором я слышал в 1994-м в игре «Theme Park».
Люди ЕКБ окончательно убедили меня, что действительно надобно посетить другие города. Спасибо, Екатеринбург ❤
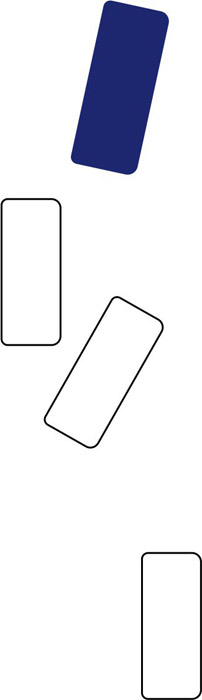

ПОСЕЩЕНИЕ
Илья Бояшов (Санкт-Петербург)
писатель, автор книги «Танкист, или «Белый тигр», литрезидент Библионнале#наурале №Два
Я был уверен: военными музеями меня не ошарашить (десять лет работы в Военно-морском музее, а так же неоднократное посещение Музея артиллерии и ракетных войск в родном Петербурге, кроме того, легендарная Кубинка, Имперский военный музей в Англии, Бовингтон, и так далее, и тому подобное).
Но вдруг…
Когда вашему покорному слуге предложили посетить Верхнюю Пышму, сообщив о нахождении там площадки с танками, с одной стороны, он не удивился, ибо Урал есть признанная танковая кузница: почему бы именно в Верхней Пышме и не выставить два-три экземпляра. С другой – скепсис все-таки присутствовал: ну, да, конечно, пара «тридцатьчетверок», несколько САУ, возможно, экземпляр «Т-80», чтобы детишки попрыгали по броне.
Однако то, что увидел – сбило с ног.
Никак не мог представить себе, что в скромном уральском городке под Екатеринбургом взору моему откроется необъятное пространство, забитое военной техникой. Глаза мои мгновенно разбежались. Дыхание сперло. Ибо передо мной даже не на площадках, а на целых площадях, можно сказать, площадищах, теснились десятки танков, бэтээров, самоходок – советских, британских, немецких, американских (среди них сверкало и то, что никогда ранее мне «вживую» не попадалось, что разглядывал я только в справочниках). А если присовокупить к этому техническому пиршеству паровозы, катера, самолеты, гидропланы, подводные лодки, орудия, и, вишенками на торте, два огроменных БелАЗа, рядом с которыми я моментально превратился в крохотное насекомое?
Но это было еще далеко не все!
Как вам чудовищный по размаху корпус, в котором расположились сотни автомобилей, мотоциклов, автобусов? Как ангар с самолетами, среди которых обнаружил я любимую мною «Каталину», поставляемые в годы войны по ленд-лизу двухместный бомбардировщик «Бостон» и «Аэрокобра», «Пе-2», целое семейство «яков», «петляковых», «лавочкиных»? Манекены летчиков рядом с небесными машинами были как живые: угадывались среди них и исторические персонажи.
Я впервые устал нажимать на фото своего «смартфона».
Чтобы окончательно уже добить ошалевшего посетителя, приветливые экскурсоводы привели его в трех… нет, кажется, даже в четырехэтажное здание, снизу доверху заполненное (а лучше сказать – забитое) опять-таки техникой, оружием, формой…
Мне сообщили – музей будет расширяться.
Меня уверили: это еще только начало.
«Какое начало?», растерянно думал я, «куда уж дальше?»
Оказывается – есть куда! Есть еще порох в уральских пороховницах.
Свидетельствую.
Отходил я от посещения долго. И после увиденного не станет для меня новостью, если в Верхнюю Пышму, о которой ранее, честно признаться, я и «слыхать не слыхивал», переместятся «Аполлоны», «Дискавери», китайские, индийские, американские марсоходы, космическая станция (МКС) – и прочее, прочее, прочее… Побывав там и наткнувшись на такое, я более ничему уже не удивлюсь.
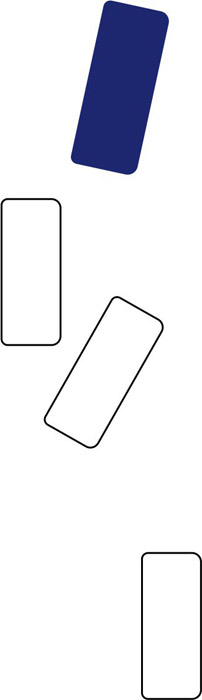

ГНЕЗДО ГРИФОНА
Сказание о Верхней Пышме
Елена Соловьева
писатель, координатор Библионнале#наурале
«Славянский грифон – это грозное и устрашающее животное, которое обитало в Рипейских горах. Его цель – охранять несметные сокровища», – чего только не прочитаешь сегодня в интернете! Дичь, конечно. Подразумевалось, видимо, словосочетание «грифон в славянской мифологии», а горы имелись в виду «Рифейские». И сочинители текста знать не знали, что «гнездо» грифона на Урале есть – моногород Верхняя Пышма, постепенно срастающийся с Екатеринбургом новостройками высотных кварталов и соединённый с ним в 2022 году междугородней трамвайной линией.
«Односекционный трамвайный вагон со стопроцентно низким уровнем пола» (71-911ЕМ) отходит от остановки «Фрезеровщиков» в ЕКБ каждые 10 минут. Он носит номер «333» и называется «Львёнок», хотя мордочка его больше напоминает насекомое: то ли саранчу, то ли кузнечика. Будем считать, что кузнечика, он как-то симпатичнее и больше соответствует славному характеру транспорта: светлый и просторный трамвай везёт народ мимо лесопарка «Пышминские озерки», огромного торгового центра Veer Mall, цирка-шапито и озера Лебяжье. А вот у Лебяжьего нрав скверный: вода из него заливала участок, где прокладывали рельсы, и пришлось возводить дамбу, а в 2019 году в болоте, окружающем озеро, во время зимней оттепели затонуло два экскаватора. Зато теперь в тёплое время года из окон вагона иногда можно видеть пару лебедей, что несколько гуманизирует эти безнадёжно урбанистические пространства, где окраина индустриального Екатеринбурга плавно перетекает в Медную столицу Урала. Так гордо именуют отцы города четвёртый спутник ЕКБ, примыкающий к нему с севера, базовый форпост «Уральской горно-металлургической компании» (ОАО «УГМК») с населением чуть больше 70 тысяч человек.
На гербе города, утверждённом в 2001 году, когда приватизированные заводы начали вытаскивать из ямы 90-х, изображён грифон, существо противоречивое, если покопаться в его древней родословной. Может выступать и защитником, и опасным, агрессивным зверем. Ещё Плиний Старший связывал грифонов с золотом, которое они стерегли, и, возможно, в гербе зашифрован намёк на то, что первоначально в 1811 году, поселение в верховье речки Пышмы появилось из-за его россыпей, в процессе разработки которых и нашли медь. Теперь уральский грифон сжимает в когтистой лапе её алхимический знак «зеркало Венеры», напоминающий ключ. Не исключено, что в светлое будущее. По крайней мере, на фоне многих монопоселений Пышма сегодня смотрится крайне выгодно и амбициозно, хотя статус города получила только в 1946-м году, первый пятиэтажный дом в 1963-м, а первое большое кафе «Металлург» двадцать лет спустя.
Когда-то Ленина, теперь проспект Успенский
Столичные дикторы и гости Урала до сих пор не научились правильно выговаривать заковыристый топоним, норовя поставить ударение на первый слог. Ещё часто спрашивают, существует ли Нижняя Пышма? Отвечаю – нет. А название нового трамвая странным образом стало рифмоваться у меня с грифоном, который, как известно, тело позаимствовал у льва. Слишком вольный полёт ассоциаций, скажете вы? Но верхнепышминские пространства к подобному располагают. Например, пассажиров, прибывающих из ЕКБ на «Львёнке», встречает вид совершенно феерический: Эрмитаж военной техники – белые колонны мощного музейного комплекса, бисквитный фасад которого украшен знамённой группой и красным флагом. Советский неоклассицизм здесь масштабирован до имперского размаха Санкт-Петербурга и приправлен аллюзиями на ВДНХ. Высится это великолепие практически в чистом поле. Около (слева по ходу трамвая) стилизованная ж-д станция, где останавливается туристический ретро-поезд. Справа виднеются шпили и купола церкви Успения Пресвятой Богородицы (освящена в 2000 году). Благодаря ей бывшая улица Ленина, объединённая с бывшей Советской, переименованы в 2014 году в Успенский проспект. Не то чтобы слепое копирование/возвращение прошлого, скорее – его переосмысленный опыт, принятый в качестве базовых ценностей для современной жизни: лучшее из социалистического уклада + возрождённая церковь. Если вдуматься, то сращение это чем-то сродни энергии, скрестившей всё в том же грифоне льва с орлом.
Дом № 1 по Успенскому проспекту – сердце города: штаб-квартира (головной офис) УГМК и проходная завода «Уралэлектромедь». На площади перед ним– Мемориальный памятник «Журавли», посвященный заводчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной, и памятник «Гильза», символ подвига рабочих тыла. Тут же – вход в Музей техники, на «наружке» которого значится, что он «один из крупнейших в мире». И не согласится трудно. Общая его площадь 12 гектаров, что составляет 17 футбольных полей. Сейчас буду перечислять, приготовьтесь: два корпуса Музея автомобильной техники, Музей авиации «Крылья Победы» (уникальная коллекция отечественных и зарубежных самолётов 1930-1940-х годов), Музей военной техники, Планетарий, выставочный центр «Парадный расчёт» (более 50 ходовых образцов военной техники 1930-50-х), макет ж-д станции «Узловая» в натуральную величину (водонапорная башня, кран для загрузки угля, колонки для воды). Все пять путей перед двухэтажным строением из красного кирпича заставлены техникой того времени: санитарный эшелон, цистерны, зенитные платформы, теплушки, бронедрезина, бронепоезда. Хоть сейчас бери в качестве натуры для киноэпопеи о Великой Отечественной.
Но станция – капля в море. Потому что перед музеем Автомобильной техники, между гигантскими Белазом и Камазом, соревнуясь с ними в размерах, высится копия скульптуры «Рабочий и колхозница» с ВДНХ; перед «Крыльями победы» – вертолёты, реактивные самолёты и системы залпового огня, ракетные комплексы. На открытой площадке есть и ракетно-космическая техника, танки всех видов, артиллерия, корабли и подлодки, самоходки, инженерные машины, колесная и гусеничная бронетехника, техника радиационной, биологической и химической защиты. Уф! Даже бегло огласить список – непросто.
Однажды передо мной бродил между образчиками антикварного железа юноша-юморист, который всё повторял своей спутнице: «Смотри, детка, так играют в солдатиков олигархи!». Действительно, музей частный, создан по инициативе экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына, который на момент 2023 года занимал 636 место в рейтинге Forbes, несмотря на то, что попал с началом СВО в санкционные списки 27 стран Евросоюза. Из открытых источников в СМИ можно почерпнуть, что родился он в 1960 году, начинал работать на заводе электромонтёром, служил в армии. Первую в жизни награду, медаль «За спасение утопающих», получил в 13 лет – вытащил из реки девочку. Живёт в Верхней Пышме на улице Парковой, именем его погибшего старшего брата Александра Козицына, бизнесмена и кандидата экономических наук, в городе названы улица и Ледовая арена (Успенский проспект,4). В одном интервью Андрей Козицын сформулировал следующее: «Для меня патриотизм — это когда тебе не стыдно за то, что ты живешь там, где ты родился». Хотя большие интервью с ним редкость, в основном – комментарии в деловых изданиях.
В 2010-м Патриарх Кирилл, посетивший город, наградил коллектив вверенного Козицыну комбината «Уралэлектромедь» орденом преподобного Серафима Саровского III степени. В августе 2023 года правительством Свердловской области направлено ходатайство о присвоении городу звания «город трудовой доблести». Таким образом, труд рабочих Верхней Пышмы освящён не только регалиями родом из социалистического прошлого, но и церковью.
Однако продолжим нашу экскурсию по Успенскому проспекту. Последнее, что привлекло моё внимание на информационном стенде Музейного комплекса – реклама специфического развлечения для детей: «Гонки на танках», 10+, рост от 140 см, общий вес водителя и пассажира не должен превышать 150 кг, 600 рублей два круга (5 минут), 1000 рублей четыре круга (10 минут). Речь шла о картодроме около павильона № 6. Следует отметить, что среди выставочных экземпляров музея есть подлинные образцы, а есть макеты, есть «уснувшая» техника, а есть техника на ходу, она каждый год 9 мая выезжает на Парад Победы, и сконцентрирована в павильоне «Парадный расчёт». Пятый год Музей устраивает ретроралли «Кубок Урала» на винтажных автомобилях.
«Миллиардер сам ездил на всем, что поступает в музей, кроме самолетов — они не летают, – сообщает автор материала «Военно-полевой роман» в журнале «Forbes» от 4 апреля 2016 года. – Ощущения от управления старой техникой, признается он, сильные — в танке страшный грохот, тормозить или поворачивать колеса на полуторке приходится своим человеческим усилием. «Как в войну выстояли, уму непостижимо. Они были другие люди. Мы сегодня чахленькие и слабые, в подметки им не годимся», — говорит Козицын, рост которого 190 см». В «Парадном расчёте» при желании можно посидеть на месте бойцов в танке Т-34.
Все здания, олицетворяющие «новую» Пышму, сконцентрированы в начале Успенского проспекта. В строении с номером 2-а расположен Дворец самбо и единоборств (2022). Номер 2-г – детский технопарк «Кванториум» (2020) с десятью образовательными направлениями (в том числе наноквантум, автоквантум, аэроквантум, робоквантум). Успенский проспект, 3 – единственный в России частный Технический университет, корпоративный университет УГМК (2013). Он выполнен в виде стилизованной домны, перед ней памятник «основоположнику теории расчёта пламенных печей» Владимиру Грум-Гржимайло. Его установка – восстановление исторической справедливости, о чём сказал на открытии монумента Андрей Козицын, подчеркнув, что «фамилия великого человека, который создавал металлургию у нас на Урале» была незаслуженно забыта, а между тем он стал родоначальником металлургических производств в Тагиле, Серове, Алапаевске, Салде.
В отличие от Эрмитажа военной техники, все перечисленные здания выдержаны в стиле «одомашненный хай-тек»: не особо высокие, стеклянно-бетонные конструкции, функциональные, по делу, серо-песчаных тонов, кое-где пропущены оранжевые «ленточки» фирменного стиля УГМК. Выбиваются разве что неоклассические формы недостроенного ещё «Театрума» (Успенский проспект, 2-в), который по архитектуре представляет собой аналог Мариинского театра с четырьмя сценами, независимыми друг от друга. Да, Верхняя Пышма вписывает себя в российский и мировой контекст амбициозно и непринуждённо, курс на «самое-самое»: Успенская церковь расписана учениками Московской Академии живописи, архитектуры и скульптуры имени Ильи Глазунова под руководством сына мэтра Ивана Глазунова; соборная мечеть (2002), получившая благодаря куполу, изготовленному из меди, название «медная», – «самая крупная из новых в Сибири и Поволжье».
У входа в Парк УГМК (открыт в 2003 году) есть большие солнечные часы. Если встать в центр круга, то по собственной тени можно установить время с погрешностью до минуты, а также узнать, сколько конкретных километров отделяет вас сейчас от Токио, Москвы, Бангкока, Осло, прочих мировых столиц. Причём житель города будет чувствовать себя стоящим в центре мира. В книге «Изобретение повседневности» культуролог и антрополог Мишель де Серто размышлял о том, какое огромное количество тел пишут городской текст, не читая его. Читать «текст» Верхней Пышмы интересно: одни видят здесь оазис «победившего развитого социализма», другие «европейскую чистоту и комфорт», отдельные эстеты иронизируют по поводу архитектурной эклектики из серии «я надену всё лучшее сразу» и посмеиваются над гигантизмом «Военного Эрмитажа». В моём воображении мелькает мощная тень хтонического грифона, стража и обладателя сокровищ, а кто-то справедливо вспоминает какой «убитой» была эта территория до начала преобразований, и «что уж туристов сюда не возили точно».
В своём исследование Серто показывал, как сильные мира создают «стратегии» пространств, приспосабливаясь к которым обычный человек («потребитель») вырабатывает свои «тактики» их «неформального использования». Освоенная мной часть Успенского проспекта, бывшей Ленина-Советской, заканчивается в районе дома №99, где панельную «свечку-высотку» времён СССР опоясывает по периметру первого этажа помещение магазина «Книги, кофе и др. измерения». Там всё модно, как в «новой» Пышме и положено: фиброцементные и латунные фасадные панели, «отсылающие к идее оригами», внутри кофейня и «трансформируемый лекторий, в котором часть посадочных мест может быть опущена до уровня пола, формируя площадку-подиум». Отсюда я никогда не ухожу без покупки.
Однажды углубилась с приятелями по проспекту чуть дальше. Тут город уже не стоит навытяжку – обычные для заводских «спальников» двухэтажные дома, хрущёвки-пятиэтажки. В одной из таких зашли в кафе-кулинарию, где к витрине готовой еды были втиснуты три столика, интерьер декорирован а-ля икеа, имелась микроволновка для подогрева снеди, весёленькие шторы, пластиковые цветы вперемежку с живыми фиалками. Правда, одноразовые пластиковые ножи и вилки оплачивались отдельно. Дверь в дверь с заведением – вездесущее «Красное&Белое». Пока ждали такси до Екб, подкатил благообразный седой инвалид в кресле и попросил купить ему мороженого. Кстати, чуть не забыла – в Верхней Пышме нет самокатов, как-то не прижились они в «гнезде грифона», по крайней мере, прошлым летом 2024-го.
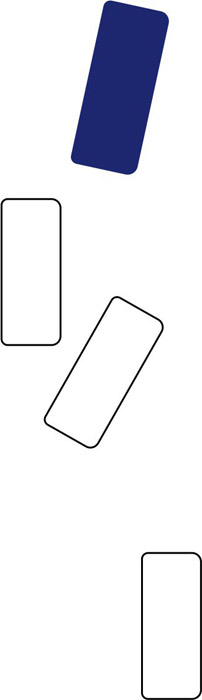

МОЯ РЕКА
Глеб Жога
писатель, журналист, экономист-регионалист. Родился и вырос в Перми. С 2007 года живет в Екатеринбурге. Автор книг малой прозы «До движения» (2018), «Истории о работе, дружбе и любви» (2021), «Хтонь-гора: как устроена Уральская вселенная» (2022).
Неужели Пермь дождалась? Набережная. В городе говорят «реконструкция набережной». Никакая это не реконструкция, а сооружение. И (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) наконец-то полноценное, успешное.
Пермь вытянута вдоль Камы. Кама огромная, широченная. Красивая? Величественная? В черте города, скорее, основательная, мощная, хотя и немного вялая. В Перми всегда были пристани, пароходство, порт, краны, речной вокзал, ГЭС, шлюзы, заводы (и их сточные воды)… А набережной не было. На реке работали, реку использовали, но будто бы никак не могли с ней подружиться, по-настоящему принять ее, охватить, одомашнить, окультурить, обжить, что ли. Полюбить.
Перми триста один. И она, наконец, повзрослела, чтоб принять в себя реку, впустить ее в себя. Но и самой отдаться этой реке, влиться в нее. Прикамье.
Мне сорок. И первые двадцать два из них я прожил в Перми. Так вот в моей Перми, в городе моего детства, том, который уже навсегда со мной, в нем реки будто бы и нет.
Ну то есть, что значит «нет»… Не то чтобы совсем нет. В первую очередь река присутствует в нем как граница, как досадное и неизбывное препятствие, или даже источник какой-то несправедливости. По большей части Пермь расположена на левом берегу, а мы жили на правом. На левом — центр и большая историческая Мотовилиха, Балатово, Бахаревка, Нагорный… да много что. А на правом лишь Закамск и Гайва, ну, и еще несколько микрорайончиков, но они не смыкаются, а как-то очень неудобно разбросаны, поэтому на правом берегу нет единого городского пространства, как на левом. Я вырос на Гайве.
В детстве, я помню, это и звучало «левый берег» и «правый берег», а сейчас, вроде бы, так уже не говорят, просто район называют. «Правый берег» — мама это всегда с досадой и пренебрежением произносила, для нее это был синоним захолустной окраины. Она сама здесь на Гайве выросла, но потом ее семья (мои бабушка-дедушка) переехали на левый — в «Молодежный». Как будто почетнее. И к центру ближе, и к властям: Гайва не самостоятельное административное образование, а часть Орджоникидзевского района Перми; администрация района располагалась на левом берегу, в том самом «Молодежном», поэтому и вся общественно-праздничная жизнь происходила там, а не около нас на правом. Но вот мама вышла замуж за папу, и снова очутилась на правом берегу. Папа тоже родился, вырос, а затем почти всю жизнь жил и работал на Гайве.
Маму наша правобережность очень тяготила. Мне это тоже передалось. Поначалу просто беспричинно, ну, раз маме так сильно не нравится, значит, и правда, есть в этом что-то увечное. Но потом я и сам очень быстро прочувствовал, что все самое веселое происходит на левом берегу. В детстве это относилось сугубо к семье маминых родителей: у мамы есть младший брат, но когда я рос, то он был мне никак не дядя, а скорее, тоже брат, только старший. С ним было весело.
Ну а потом — театры, концерты, городские праздники — все это левый берег. Чуть позже возникла рутина — лицей, университет. Значит, приходилось изо дня в день штурмовать водное препятствие. Рано утром туда, после обеда обратно — длинный мост, частые пробки (даже в те времена, когда движение в городе было еще очень разреженное). Раздражает, надоедает, утомляет.
***
Детьми на Каме мы почти не играли. Вот на Гайве (вообще-то это речка такая, район по ее имени назвали) — да. Она маленькая, мелкая, петлючая и быстрая — в самый раз. Много заливчиков-лягушатников — купались, разумеется. Пытались рыбачить. Просто жгли костры и сидели на берегу.
А! Еще Второй залив — тоже место силы моего детства. Теплее всего я вспоминаю, как мы туда с дедом ходили. Я дошкольник, дед еще полон сил, лето, жара — красота. Одно время жизнь там была организованная, был удобный пляжик с переодевалками и вышками для ныряния, прокат лодок и водных велосипедов-катамаранов (иногда брали — дед, помню, им в залог свои часы «Победа» оставлял). Потом мы, мальчишки и сами туда бегали; там надо мимо небольшой военной части пройти — очень любопытно было на солдатиков поглазеть. А у одного моего одноклассника папа-офицер там преподавал (при части был филиал училища), поэтому Ромка про эту часть, про ее лазы и тайные тропки все хорошо знал, и нам это было очень на руку. А позже Андрей, тот самый мой дядя, в этой же части служил, так я ему тайком передачки таскал — всякие вкусняшки, как правило…
Но Первый и Второй залив — ведь это только номинально Кама! А на деле это два длинных укромных отростка, причем даже не от русла реки, а от водохранилища. Поэтому никак у меня не связывался тот пляжик, куда было так здорово ходить с дедом, с грязной Камой, жестоко ограждавшей меня от левобережного веселья.
Еще про Камскую ГЭС надо сказать. Началось-то все с нее: Гайва ведь появилась — ну а куда от исторической правды деваться? — как трудовой лагерь для зэков, которые строили плотину и дамбу. Потом руками тех же зэков (в основном, пленных немцев) построили рабочий поселок — это уже для свободных советских кадров, которые сооружали электростанцию. Зэки тут не задержались: советских перевели на север области в легендарный комплекс «Белый лебедь», немцев, вроде как, отпустили. А названия «первая зона», «пятая зона» крепко закрепились за гайвинскими микрорайонами. (Наверное, когда-то были и вторая, и четвертая — но этих словосочетаний в моей памяти нет). Так я и говорил все детство: бабушка и дедушка живут в пятой зоне, а мы — в девятом микрорайоне. И нисколечко это никого не коробило.
При ГЭС и шлюзах сразу же появился завод «Гидросталь» — там работал папин папа, тот самый, с кем я потом ходил на заливы. А потом на Гайве вырос целый электротехнический кластер: гигант «Камкабель» (по масштабу он быстро перерос КамГЭС, ведь она вообще-то очень небольшая по современным меркам; на «Камкабеле» работали мои родители), Изоляторный завод (там когда-то работал мамин папа, но недолго), еще что-то…
КамГЭС постоянно присутствовала в моей детской жизни. Больше всего, конечно, просто как мост — именно через ГЭС мы ездили в гости к маминым родителям (в центр лучше ехать по другому мосту). Но ГЭС еще и зрелище: плотина и сама по себе — впечатляющая конструкция, плюс система шлюзов (жаль, их редко использовали, судов там мало ходит), но особенно здорово на ГЭС глазеть, когда в мае-июне сбрасывают излишек воды с водохранилища — бурление извергающихся водных потоков неотвратимо завораживает! Тут уж зеваки со всего города, не только гайвинские. И снова: во всем этом я видел лишь плотину, шлюзы и ГЭС, а вот реку, причину и основу их жизни — не видел, не замечал.
Реку я начинал видеть, когда мы с семьей (или компанией в несколько семей) «выезжали на Каму». Это были загородные пикники на берегу, как правило, мы ехали либо в сторону живописных Скобелевки и Хохловки, либо на «Камское море» (где водохранилище разливается), ну либо просто в Заозерье (оно совсем рядом). И вот тогда-то я вдруг замечал — какая прекрасная здесь вода! Ее ширь, мощь, сила и свежесть вдруг начинали доходить до меня.
А самое классное, это когда едешь в сторону Полазны — где сливаются Кама и Чусовая. Лучше на электричке, потому что железнодорожный мост ближе к устью, чем автомобильный (да автомобильного-то и не было в моем детстве, он новый). Въезжаешь на Чусовской мост и оглядываешься — вокруг столько текущей воды — две огромные реки! — маленькое детское сознание просто не может всю ее вместить и переполняется радостью! Чистое ликование!
Вот там, да, там Кама красивая и величественная. Но это — за городом. А в городе — нет, лишь обрыдлая преграда.
***
В детстве у меня была летняя кепочка с надписью «Речфлот» и стилизованным штурвалом (который, как я сейчас понимаю, круто замахивался на роль солярного символа). Кепочка мне очень нравилась, однако концепция речфлота мне казалась ущербной: вот морфлот — это по-настоящему, а речной — ну что за полумеры… Поэтому я испытывал сложные чувства на счет этой кепочки и никак не мог полюбить ее, так сказать, в полную силу.
Когда я только переехал в Екатеринбург, один старший товарищ вдруг стал меня о рыбалке расспрашивать. Да я, говорю, не рыбачу, вообще-то. Ты чё, совсем дурак? — изумлялся он, — такая шикарная река прямо в городе, а ты не рыбачишь?! Я задумался: река… в городе…
Потом, помните, вышел фильм по ивановскому роману «Географ глобус пропил». Меня все спрашивали, мол, правдиво ли там Пермь показана. Ну, вроде, правдиво… Вот только там в кадре постоянно Кама присутствовала — и общие виды, и берега бесприютные, грязный порт, какие-то брошенные корабли… в моей Перми таких видов не было.
А еще я всегда завидую городам, сумевшим обжить свою большую воду. Больше всего — Нижнему Новгороду.
Минувшую неделю мы гостили в Перми у моих родителей. В одно утро мама сказала: а поехали на новую набережную, там такую замечательную детскую площадку сделали, Левушке обязательно понравится. Мы и поехали. И площадка Левушке, действительно, понравилась, особенно всякие веревочные и деревянные лазалки. Но дело тут не в лазалках, и не в убранстве (весьма богатом) новой камской набережной. Дело в ее общем, как бы это сказать… соответствии. Наконец она стала адекватной, соразмерной и городу, с его жителями, и реке, с ее размахом.
И потому я наконец сумел увидеть реку в городе. Это было поразительно. И само по себе, и особенно то, что я, выросший здесь, испытал это впервые только сейчас.
Я долго сидел на лавке и смотрел на Каму. Летнее утро, солнечно, но не жара. Два круизных теплохода подходят и причаливают к вокзалу. С них доносится примитивно-назойливая танцевальная музыка отечественного производства. То ли давешняя вечеринка продолжается, а то ли коллективная утренняя зарядка. Чайки кружат, галдят, много их.
Я встал, повертел головой — раз теперь здесь такая набережная, не может ведь на ней не быть кофеенки! О, вот и открытый киоск. Направился к нему. Small talk: какая тут у вас набережная раскинулась, ай, красота, а часто ли электрички по этой ветке ходят? А вы, в ответ спрашивает, откуда, с теплохода, поди? Да нет, я так, я просто в гости…
Теперь я просто в гости.
Эх, мне бы сейчас ту белую кепочку «Речфлот» с синим штурвалом! Я б больше не колебался, я б ею гордился. Потому что вот она — река. Наша река, моя родная река! Вот же она! И пусть вся эта красота доступна — как всегда, тут никак не отвертишься — лишь только с левого берега, а правый по-прежнему захолустье, но зато теперь и родители на левом живут.
Да где ж теперь та кепочка. И с родителями я давно не живу. Мне за сорок перевалило. А Перми — за триста. И Пермь наконец-то дозрела до своей реки. А я?
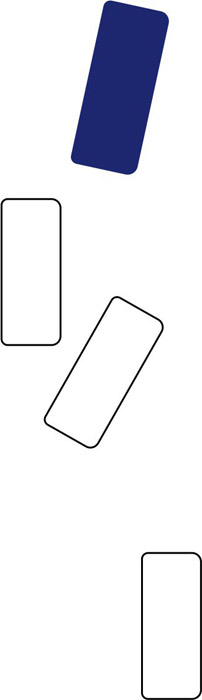

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Из преподов в передовики литературы
Анна Кузьмина
4 октября 2024 года писатель из Екатеринбурга Владимир Сутырин получил премию имени Павла Бажова в номинации «Данила-мастер» (публицистика) за книгу «Бажов. Биографическое повествование», опубликованную в серии «Жизнь замечательных уральцев». Она вышла вторым изданием год назад в переработанном и дополненном виде. За эту же работу автор ранее удостоился премии губернатора Свердловской области.
Жизнь Павла Петровича Бажова в изложении Владимира Сутырина могла бы стать основой для драматического и даже остросюжетного байопика. Это история успеха, но успеха неожиданного – и успеха как бы не совсем личного, а общего.
Сын рабочего из Сысертского завода, Бажов в десятилетнем возрасте поступил в Екатеринбургское духовное училище, затем окончил Пермскую духовную семинарию, и даже чуть было не поступил в университет. В течение 17 лет он скромно работал учителем словесности в Екатеринбургском духовном, а затем епархиальном училище. Женился по взаимной любви на своей ученице, которая родила ему семерых детей (трое скончались в младенчестве). Всю жизнь они прожили в согласии. Чего ж еще желать? Но в 1917 году на волне бурных перемен Бажов оставляет преподавание и включается в общественно-политическую и журналистскую работу. В этом бумажном труде было мало творческого, в основном он сидел на «текучке»: писал необходимые статьи, отвечал на письма. До середины 1930-х годов Бажов успел поработать редактором сельскохозяйственной литературы и даже цензором. В его библиографии, правда, числилось уже пять книг очерков, причем «дебют» состоялся поздно, когда автору исполнилось 45 лет. Сборник воспоминаний о дореволюционном быте сысертских заводов «Уральские были» и теперь читается с интересом, хотя выдающейся книгу все же не назовешь.
Сказочник-Бажов появился неожиданно. В 1937-м году, когда после очередного доноса жизнь его висела на волоске, вторично исключенный из партии, оставшийся без работы, Бажов решил наконец заняться «творчеством». Выпущенная в 1939-м году «Малахитовая шкатулка» имела оглушительный успех.
«Всего три года назад решением бюро обкома он был превращен в безработного старца, практически вычеркнутого из общественной жизни. И вдруг – известен на всю страну и возведен в первый ряд советских сочинителей».
Как получилось, что скромный трудяга, до шестидесяти лет не помышлявший всерьез о писательстве, вдруг вознесся на олимп советской литературы? В своей книге Владимир Сутырин, обстоятельно и увлекательно рассказывая биографию Бажова, убедительно доказывает, что, в общем-то, «никакого секрета тут нет». «Внезапный успех сказов «Малахитовой шкатулки» - совсем не внезапный. Он был подготовлен всей предыдущей творческой работой их автора». Эта «работа» началась еще в детстве, когда маленький Павел Бажев (так раньше писалась его фамилия) жадно впитывал заводские легенды, в молодости он изучал традиции старообрядцев, а в 1920-е годы, во время службы в «Крестьянской газете», живо интересовался крестьянским (уральским) фольклором, много ездил по Уралу. То есть к 60-ти годам он, с одной стороны, накопил «материал», с другой – отточил стиль.
И все же вряд ли этого достаточно для того, чтобы написать великую книгу. Владимир Сутырин – автор, работающий в жанре «художественного очерка»: он не просто пересказывает факты биографии уральского писателя, а пристально вглядывается в своего героя, пытаясь понять его психологию. Павел Петрович Бажов, описанный Сутыриным, не похож на кабинетного фольклориста-исследователя. Он, хоть и скромен и не авантюрен, но жаден до жизни. ХХ век только начался, и Бажов – еще не мудрый старец, а новичок (хоть и рано отпустивший бороду), которому безумно интересно наступившее время – опасное и трудное, живое и деятельное. Сутырин с изумительной достоверностью реконструирует перемены, свидетелем и участником которых был Бажов. И даже молодой читатель, возможно привыкший первую половину прошлого столетия оценивать как «ужас-ужас», невольно начинает завидовать герою, который увлеченно строит новый мир, хоть из скромности и выбирает самую тяжелую и ответственную, рутинную и незаметную работу.
Сказы Бажова появились, как это ни банально, из труда. Идеология требовала правильных книг о рабочих – их писали, но им не верили. Бажову, одному из немногих, удалось «угодить» всем: и властям, и читателям (причем, будущим тоже: и властям, и читателям!). Исследователи до сих пор спорят, в чем секрет обаяния бажовских сказов: то ли в волшебстве, то ли в особенном авторском стиле, то ли в глубинных архетипах, которые читатель бессознательно считывает в образах и героях Бажова.
При этом первые сказы он стеснялся подписывать своим именем, прячась за маской литературного рассказчика. Но вот что удивительно: авторство Бажова – совсем не то, что авторство сказочников Пушкина или Андерсена. Павел Петрович до сих пор воспринимается читателями скорее как со-автор, а не как самостоятельный сочинитель. Именно в этом, думается, и заключается секрет популярности «Малахитовой шкатулки». К истории успеха Бажова мы тоже относимся иначе – не столько как к личной его удаче, сколько как к национальному достижению (примерно также мы оцениваем Юрия Гагарина – трепетно и без зависти). Бажов не был святым человеком, в его биографии можно найти темные пятна, а в сказах идеологические натяжки, но – что редко бывает с русскими писателями – он умел, не конфликтуя со временем, историей, страной, режимом, да и вообще окружающими людьми, рассказать что-то важное о нас – о людях вообще и об уральцах, в частности. В предисловии Владимир Сутырин подчеркивает: «Если кто-то иногородний (иностранный, инопланетный) захочет познать, что такое уралец в отличие от всех остальных россиян, то более верного кода доступа к пониманию сути этой региональной идентичности, нежели сказы Павла Петровича Бажова, не найти».
Думается, собственная биография понравилась бы Павлу Петровичу: и глубоким погружением в материал, и простым, увлекательным слогом. Сутырин пишет о Бажове без придыхания, порой даже по-доброму иронизируя над своим героем. А как над ним не пошутить, когда с самого детства для многих из нас он является родным человеком?
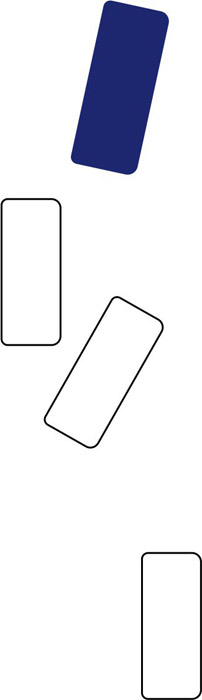

НЕБЕСНЫЙ ТАГИЛ
Сны, которые сами рождаются
Ольга Балла
литературный критик, эссеист, редактор журнала «Знамя», лауреат премии «Неистовый Виссарион», регулярный участник программ по поддержке чтения, проводимых Библиотекой им. В.Г. Белинского
За три неполных дня (да и тех не было: к вечеру девятого июня приехали, к вечеру одиннадцатого уехали, и только десятого город был наш), конечно, ничего толком не рассмотришь. Что в городе нужно обойти в первейшую очередь, как реперные точки для построения его сколько-нибудь жизнеспособного образа? — конечно, музеи. Отправиться в диахроническое странствие — вглубь времени, разведать вертикальное измерение города, рассмотреть хоть некоторые его подтексты и затем накладывать их в воображении на то, что увидишь на улицах, сращивая диахронию и синхронию, придавая таким образом объём неминуемо поверхностным впечатлениям случайного туриста. Натягивать между этими точками городскую ткань — чтобы была виднее.
(Во вторую очередь надо обойти — пешком, пешком — центральные улицы, в третью — рынки и окраины, в четвёртую — проехаться на разных маршрутах разного транспорта как можно более далеко, желательно из конца в конец. И потом уж — но непременно — целый день подряд, и не меньше, ходить в любых мыслимых направлениях. Местные ресторанчики и кофейни — необязательное, но, как правило, содержательное примечание на полях такого текста. И вот при выполнении всех этих условий появляется шанс, что картина города будет если и неполной — полной, разумеется, не будет никогда, — то многосторонней уж точно.
Рынков и транспорта в этот раз не успели.)
Нижнетагильский историко-краеведческий, большой, наверняка содержательный музей (так и хочется сказать — главный музей города, но вот сейчас с этим торопиться не будем) оказался закрыт — во все эти дни, как раз пришедшиеся на выходные да ещё близ государственного ныне праздника, двенадцатого июня (лифт по шахте времени вниз не ходил); закрыта была и музей-усадьба «Демидовская дача». Пришлось остаться без диахронического путешествия (а ведь даже и поселились рядом намеренно). Ну, не совсем: всегда же можно, по крайней мере, обойти вокруг музейного здания, которое и само по себе — форма памяти; представить себе людей, чьи жизни были связаны с этим зданием ещё до всякой его музеефикации; вчувствоваться в их воображаемые движения, которые диктовало вот это, именно это место, их повседневность, суетную, мимолётную и утомительную не хуже нашей, ставшую тем, что для нас история… Взгляд, упирающийся в те же самые камни, на которые некогда смотрели и они, прикосновение к камням руками очень в этом помогает.
Живёшь в городе, хоть бы и совсем недолго, — видишь чужие сны.
А ведь есть ещё — совсем рядом с краеведческим — завод-музей, музей истории горнозаводской техники: настоящий, громадный завод, работавший с 1725 года (Господи, с года смерти Петра Первого) и музеефицированный сразу после того, как, в конце 1980-х, был закрыт. Первый в России, говорит интернет, завод-памятник горнозаводского дела (кажется, он же и единственный). Вот уж остановленное — и плотно накопленное — время.
Совершенно уникальное в своём роде предприятие: среди прочего и в том отношении, что даёт возможность наблюдать, как стремительно культура с цивилизацией врастают в природу, насколько они, природу попирающие (а заводы это делают вполне грубо), вообще часть её и, не будь человеческих систематически поддерживающих, удерживающих усилий, очень быстро слились бы с нею совсем. Насколько культура и цивилизация, в сущности, — исключения из порядка вещей, исступления из него, экстатика. Вот туда-то мы как раз попали — и это было куда необычнее и сильнее всех многократно виданных краеведческих музеев с их усмирённым, классифицированным, «прокипячённым и расфасованным», как было почти по другому поводу сказано в одной незабвенной книге детства1, по полочкам разложенным прошлым. Там оно такое, что его не классифицируешь и по полочкам не разложишь (независимо от того, что по одиночке туристов туда не пускают, только группой с объясняющим всё экскурсоводом, да ещё каску надо надеть на случай, если свалится тебе на голову что-нибудь из ветшающих заводских конструкций). Дикое (и дичающее всё более), саморастущее, неприрученное.
«Главным» музеем Тагила (всегда же чувствуешь соблазн распределить пережитое иерархически, собрать в объёмную конструкцию — для удобовоспринимаемости и удобозапоминаемости, на самом деле) — даже не повидав других (но ведь это поправимо же, правда?) — хочется назвать именно его.
Попадание — в самый последний уже день, совсем перед поездом, почти бегом — внутрь гигантского музеефицированного завода (в значительной степени — музеефицированных руин) — остановленного, между прочим, совсем недавно, он действовал вплоть до 1987 года, что очень близко даже психологически, об исторических масштабах и говорить нечего, — так вот, попадание внутрь этих густых металлургических лесов, соперничающих мощью чуть ли не с помпейскими развалинами (и уж точно побеждающих эти последние в своём многократном превосхождении человеческих масштабов), способно сделать этот самоочевидный факт предметом не просто понимания головой, но сильного чувственного, телесного переживания. Музеи вообще-то как раз для такого и созданы, просто не каждому это в сопоставимой степени удаётся.
Итак, стремительному, как июньская ночь, Тагилу было суждено состояться как событию, прежде всего, домысливания и воображения (я бы даже сказала — как спектаклю воображения; когда недостаёт внешнего, именно такой спектакль и разворачивается в полную силу). Это, правда, не только не мало, но вообще-то составляет основную массу впечатлений от любого города, хоть от самого Рима. Просто на материале городов, более избалованных туристическим и общекультурным вниманием, воображаемая компонента не так заметна: у них очень мощная внешняя составляющая, вот все и думают, что дело в ней. На примере городов менее заметных, более свободных от центральности, а значит — и от домысливания на общекультурном уровне, от перенасыщения приписанными — уж не навязанными ли? — им значениями (не говоря уже о том, что — от суеты, неминуемо сопутствующей центральности), вполне очевидно, что это не так. Что механизм городского смыслообразования во всех случаях примерно один и тот же, и внешнее – одна только тоненькая (даже когда очень толстая) плёнка.
Что, связанное с Нижним Тагилом, было в голове у (праздно)любопытствующего иногорожанина, прежде чем этот иногорожанин сошёл с «Финиста», родственника московской «Ласточки», на тагильском вокзале? Очень немногое. Промышленный провинциальный город, что-то далёкое-от-всего, медленное, почему-то тёмное и узкое — диктуемое, пожалуй, прежде всего самим именем города, его звуковой фактурой: Тагил, да ещё и Нижний, — сыро, узко, темно — тёмно-зелёный да тёмно-землистый — влажная почва. Глубокое. Вогнутое (вдавленное?). Тревожное. Что-то было в этом образе горькое, даже трагическое, — прежде всякого анализа.
Выходишь из вокзала — и тебя встречает твёрдая распахнутая ясность.
Второй по величине, после Екатеринбурга, город области. Один из крупнейших городов Урала. Торжествующий. Трубящий. Власть имеющий.
В центральной своей части, конечно. На окраинах сложнее, тише и глуше, но так на то они и окраины.
Во всяком случае, самолепный стереотип, расколотый вдребезги, валяется у ног твоих, пока ты, переступая через эти, хрустящие у тебя под ногами, обломки, идёшь по привокзальной площади вызывать такси до снятого жилья (влезть в шкуру местного жителя! надеть на себя его большое тело-пространство! почувствовать себя им!..). Но это всё так и надо, так и задумано.
Такие образы создаются нарочно для того, чтобы быть погубленными.
(Вот заодно и ещё один лайфхак знакомства с чужими городами: прежде, чем их увидишь, — ничего подробно о них не читать — без чувственной матрицы прочитанному не на чем будет держаться, оно рассыплется. Что успело попасть в голову — из того и лепим предварительные ожидания — которые, в свою очередь, всегда хорошо иметь уже хотя бы для того, чтобы получаемые впечатления взаимодействовали с ними, спорили, подтверждали бы или разрушали бы их, — но чтобы, во всяком случае, было и чувствовалось некоторое исходное сопротивление материала. Полезная в этом смысле игра с самой собой: тщательно выстроить себе такой опережающий образ — из всего, что только это позволяет, да хоть из собственных синестетических реакций на имя города и на разные городские топонимы, — и наблюдать потом, что станет с ним делать городская реальность.
А вот когда наберёшь уже себе полные глаза этой городской реальности — самое время читать об увиденном, о его подтекстах, о его предыстории — и всё прочитанное надёжно и прочно ляжет на чувственную матрицу, распределится по ней.)
И ещё о Тагиле было в голове заезжей иногорожанки то, что там родились (так и хочется сказать — независимо друг от друга) два величайших переводчика с венгерского: ныне здравствующий Юрий Гусев и умерший в этом году Вячеслав Середа (который, как смутно помнится, в одном из интервью говорил что-то вроде того, что — большой удачей было родиться в провинции, это давало свободу от заготовленных родительских ожиданий. Звучало парадоксально, потому и запомнилось). И, вспоминая об этом, сразу понимаешь, что у тебя с этим городом есть символическая общность.
И уж разумеется, у тебя не возникнет соблазна смотреть на него со столичного высока.
Кстати, в Нижнем Тагиле родились по меньшей мере три очень хороших русских поэта (слово «поэтка» как-то не ложится на язык, что-то видится в нём кокетливое, слово «поэтесса» мнится легкомысленным и жеманным): Екатерина Симонова, Елена Баянгулова и — увы, тоже оставившая нас в этом году — Елена Сунцова.
(А уж если тебе повезло быть знакомой с двумя первыми — нам как раз повезло, — нельзя же не включить в программу их любимых пиццерий — на проспекте (неминуемого) Ленина, на улице (столь же неотменимого) Маркса: общность гастрономического опыта — глубочайше символическая.)
Да здесь огромная, невидимая глазу смысловая плотность, — думаешь, бродя среди тагильских пятиэтажек. Просто ты, внешний человек, этого не видишь. Или почти не видишь.
Подобно всякому городу, а уж русским провинциальным особенно, Тагил тем только и занят, что накладывает друг на друга, делает парадоксально-одновременными — а тем самым и взаимодействующими друг с другом, прорастающими друг в друга — разные исторические, символические, эмоциональные реальности. А во многом — и разные утопии, раз уж мышление (включая градообразовательное и архитектурное) советских десятилетий было в громадной степени утопичным. Первая из этих реальностей, встречающая заезжего странника прямо у вокзала и уже на нём самом, — позднесталинская, послевоенная имперская утопия пятидесятых годов, пышно- и грубовато-прямолинейная, позднеосенняя, с одышливым тяжеловесным пафосом. Старая советская вечность.
И человек, выросший посреди такой же архитектуры в Москве, моментально и почти без всяких к тому оснований чувствует себя дома. Снимается дистанция — а с нею и исходное, защитное напряжение. Совершенно независимо от каких бы то ни было, эстетических или идеологических, оценок архитектуры ранних пятидесятых, до хрущёвской слишком даже успешной борьбы с излишествами (изначальное — неидеологично, аидеологично. Но оно и аэстетично) начинаешь этому городу доверять, раскрываться перед ним, позволять ему на тебя воздействовать. Телесное чувство узнавания — опираясь на которое, даже если оно, предположим, потом не подтверждается, — уже проще ориентироваться в новом и незнакомом для тебя городе.
Но оно подтверждается.
Подтверждается уже на первом из обязательной программы этапе знакомства с городским пространством — при пешем ходе по самым центральным улицам, задающим костяк всему впечатлению. Проспект (неминуемого) Ленина. Театральная площадь (с драматическим театром в непременных для своего времени формах античного храма: советская античность, не менее, кажется, далёкая и даже не менее коренная, априорная, чем та, первая). Проспект Мира. Проспект Строителей. Прямые широкие линии жёсткого, маскулинного города (советская аполлоничность с глубоко загнанной внутрь — но материал всё время чувствуется — хтоникой. Чем глубже в окраины, тем всё более отступает — пока не исчезает совсем — аполлоничность, склубляется хтоника). Город, как это свойственно пространствам, оформлявшимся в ранние пятидесятые, кажется южным: послевоенная имперская архитектура разогревает его. Фантомная — отчего не менее убедительная — южность (не то же ли и у тебя, странник, в твоих московских дворах?).
Но подтверждается оно и далее — тем вернее, что город, конечно, провинциальный, полный, особенно по окраинам, тихого времени разной степени медленности, иной раз чуть ли не стоячего, глубоких его затонов: здесь ты найдёшь почти нетронутыми — пусть уже во многом и изветшавшими — и восьмидесятые, и семидесятые, и шестидесятые годы (город говорит в основном их голосами); здравствуй, юность, детство, младенчество, вот вы где, вы совсем не изменились. Более раннее тут — скорее, одинокими вкраплениями (некоторые — очень выразительны: чудные в своей тихой, штучной сложности особняки конца ли позапрошлого века, предыдущего ли рубежа веков, вестники неведомой жизни, многие заброшены). А позднесоветское — целостными комплексами, почти не разрушенными пластами: входи и чувствуй.
Конечно, при таком стремительном знакомстве с городом чувствуешь куда больше себя и своё, чем его. Но это существенно больше, чем ничего.
Основная среда — по крайней мере, нашего обитания в эти три неполнодня: серые, терпеливые позднесоветские пятиэтажки. В одной из них поселяешься, как в той самой шкуре местного жителя с его типичными движениями, примеряешь на себя его чувство пространственных объёмов этой пятиэтажки и окрестных пространств, его вид из окна, в которое этот предположительный местный житель смотрит, наверное, чаще, чем на себя в зеркале, и уж наверное отождествляет его с собой куда больше, чем это самое зеркало. Идёшь по их дворам, думаешь: вот они, залежи печальной силы — грубой, тяжёлой, точной. — А тоже ведь утопия, — думаешь дальше, рассматривая их, сплошь одинаковые: усталая утопия всеобщего равенства; утопия того, что «сегодня не личное — главное», как пели в одной из песен-должно-быть-ровесниц этих пятиэтажек, что личное глубоко вторично и подчинено тяжкой перемалывающей силе государства, броненосца в доке, которым к тому времени уже никто не очаровывался. Утопия терпения, смирения, молчания. Последняя, наверно, из советских утопий — если не считать перестроечной эйфории: вполне утопической, но очень недолгой, не задевшей своей эйфоричностью всерьёз, может быть, ничего, кроме склонных обольщаться столиц, — и не оставившей по себе долговременных архитектурных свидетельств.
Пространства, застроенные в более ранние времена, ещё не утопичны (по крайней мере, нынешнему глазу так кажется), в более поздние — не утопичны уже.
Одинокая башня на Лисьей горе, видная издалека с проспекта (неминуемого) Ленина, задающая городу далёкую, ясную вертикаль. Уютная зелёная набережная реки Тагил (широкой, как большой пруд, её части), полная тишины и света, с — вдруг — зябко-южной, изящно-простой ротондой (не холодно тебе тут уральскими зимами?), с крупными уральскими камнями у её подножья (напоминают о контексте), огромный воздух над рекой.
Что остаётся у тебя от всего этого, скоропроезжий московский человек? Жаркий ком воображения о чужих жизнях, попытки угадать эти жизни, расслышать их сквозь грубую пятиэтажечную плоть. Выдумки, иллюзии, сны (которые сами рождаются) наяву. Небесный Тагил.
1 Александр Шаров, «Человек-горошина и Простак». Ныне вспоминаемый, архетипический текст в целом такой: «Смотрите только сны рекомендованные, / Прокипячённые и расфасованные! / Сны, которые сами рождаются, / Строго-настрого смотреть запрещается».