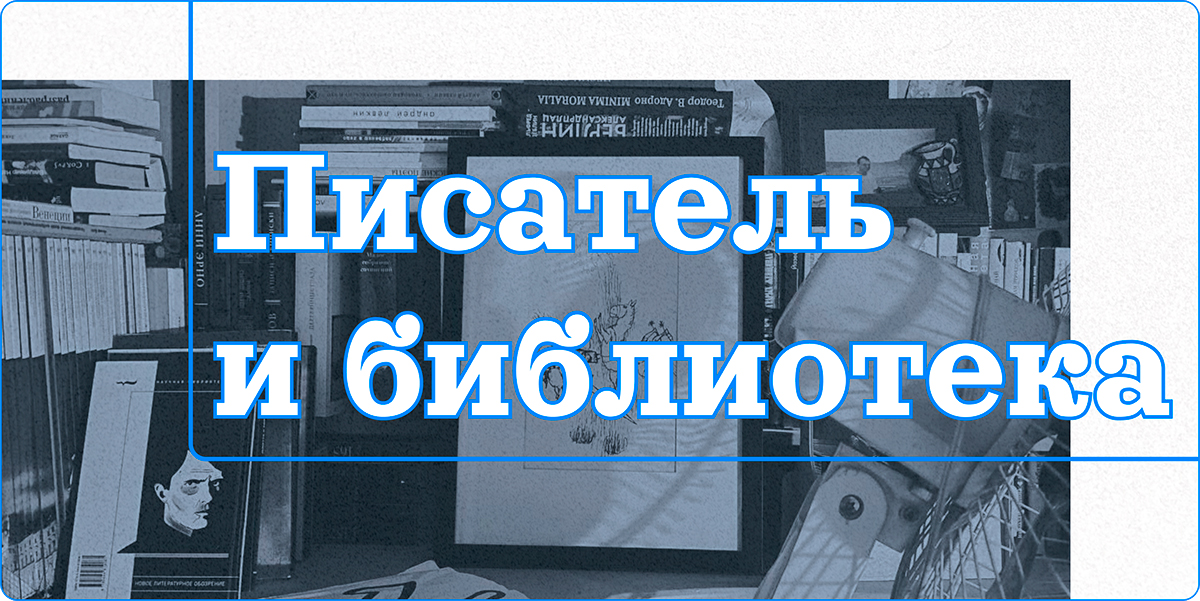О выставке Личные библиотеки писателей: история Личные библиотеки российских писателей: современность Книги о библиотекарях и библиотеках
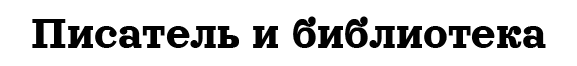
Опыты книгообрастания
Библиотека, собираемая даже не годами, а десятилетиями (считая с моей первой в жизни зарплаты, случившейся в 1987 году, – скоро будет сорок лет; до меня в этом доме никто так не безумствовал), – потихоньку и незаметно для владельца перестаёт быть явлением культуры и становится явлением природы. Обзаводится свойственными природе самовластностью, неисследимостью, буйностью ветвления и весьма ограниченной подконтрольностью своему человеку.
Все попытки навязать ей человеческую логику, разумеется, оказывались посрамлены, хотя предпринималось неоднократно. Более того, владелица её немедленно бывала за эту гордыню и наказана, потому что стоит переместить книгу с её хорошо налёжанного за долгие годы места, как немедленно забываешь, где она теперь стоит. По библиотеке надо ориентироваться не логикой, но внутренним чувством, мысленным осязанием, телесной памятью, они одни не подведут.
Но составить себе хотя бы приблизительную карту этого саморазрастающегося книжища всё ещё возможно.
Прежде всего, в нём можно проследить археологические пласты, и соответствуют они, как археологическим пластам и положено, биографическим и историческим этапам, отражая соответствующие каждому из них интересы, иллюзии, очарования, амбиции и страсти.
А в пределах этих пластов – тематические комки. Алфавитной классификации эта библиотека сопротивляется категорически.
Оставляя за скобками предбиблиотечное состояние здешнего книжного собрания, состоявшего из детских книг (не только моих, но и маминых; живы, целы, составляют нерастворимое ядро книжища и не перемещались из нижнего отделения стенки примерно никогда), случайно забредших в эти стены книг 1960-1970-х да нескольких собраний сочинений тех же времён – как они сюда попали, большая загадка (наша бабушка, главная в доме, считала, что если тебе нужна книжка, иди за нею в библиотеку – хотя бы в районную), - первым из библиотекообразующих слоёв надо счесть тот, что сложился, слепился, сросся в конце 1980-х – начале 1990-х: перестроечный и ранний постперестроечный издательский взрыв, жадное и безразборное открытие мира. Главным же образом собиралась философия, волновавшая мой ум издавна, и всяческая гуманитарная теория, потому что именно тогда стало очевидно: я знаю, что ничего не знаю, и с этим необходимо что-то делать.
Такая тенденция продолжалась все 1990-е; наряду с нею постепенно складывалась и крепла компонента художественной литературы (а с нею и второй археологический пласт) – которую в начале своего собирательства читала я мало и выборочно, а современной русской словесности не читала почти совсем. В этом пласте много книг из букинистических магазинов, сыгравших наряду с уличными книжными развалами решающую роль в моём образовании.
Отдельную прослойку – не очень большую, но значительную – составляют тут венгерские книги, которые добывались мною главным образом в магазине «Дружба» на тогдашней улице Горького, торговавшего литературой социалистических стран, – со второй половины 1980-х до его исчезновения, а также привозились из Будапешта. Сплошь философия, гуманитарная теория да мировые классики (Пруст, Кафка).
И, наконец, пласт, нарастающий и поныне, с начала 2000-х стал всё более насыщаться современной русской литературой – не выпуская из внимания и гуманитарную теорию, в особенности ту, которой утешает нас неоценимое издательство «Новое литературное обозрение». Полок, занявших уже все мыслимые стены, давно не хватает, и устойчивой – постоянной, как всё временное, упорно воспроизводящейся – формой размещения книг стали высокие стопки, именуемые в обиходе «хребтами безумия». Втайне подозреваю, что это наиболее органичная его форма, потому что, как ни парадоксально, найти в таких хребтах книгу проще всего (гораздо, во всяком случае, проще, чем в полках, где книги стоят в два, а то и более ряда, и задние ряды имеют сильную тенденцию забываться). Ищется она путём простого, терпеливо-механического перекладывания. В процессе его нередко находится ещё много неожиданного и возникают разные интересные идеи (перекладывание должно быть поэтому сочтено одной из превосходящих утилитарные цели медитативных практик, а также одной из – важнейших, незаменимых – форм рефлексии).
Главное – не перемещать оттуда найденное. Желательно никогда.
Ольга Балла