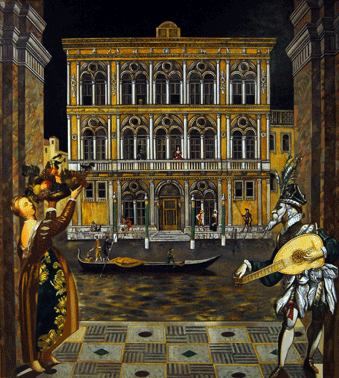
Документ постмодерна
В выставочном зале на Вайнера, 11 представили свои новые работы екатеринбуржские художники М. Брусиловский и А. Калашников. Авторы работали в тандеме и мы можем проанализировать, что из этого получилось.
На трех работах, посвященных Венеции, неимоверное вавилонское смешение стилей, направлений, школ, течений в изобразительном искусстве. Здесь все сосуществует со всем. Но выписано это не совсем органично. Картина распадается на группы. Если композиционно она еще выдержана, то с содержательной точки зрения получается какаято каша. Очевидна механичность такого постмодернистского диалога. Сплошная холодная эклектика. Жизнь на картине «Вид на старинный мост Риальто и Гранд Канал» (2006г.) представлена, как итальянский карнавал, который устроили двое: мужчина и женщина. Им лет так под 5055. Мужчина безлико отстранено серый комедиант dell`arte. И только сиреневая маска на носу выдает в нем живого человека только эти цветные «очки». А женщина из ХVIII века, века барокко, чемто напоминает Екатерину II, однако она в платье пастушки, а в руках у нее – бубен. Что к чему?.. Это эти двое играют эту «адскую музыку» (А. Блок). А вокруг… русские иконы прибитые к мосту Риальто, словно статичные, нависающие над темной водой, грубо нарисованные на досках, картины… И тут же милая компания в стиле Ватто, как будто старающаяся развеять страх, устраивает галантные празднества на реке… А воздух, вокруг этих застывших картин архитектурных сооружений и лодок, похожих на декорации и персонажей, словно позирующих для снимка, как будто пропитан пылью. И както неожиданно, вместо итальянской Венеции мы начинаем ощущать это место, как символическое место любого современного мегаполиса, как космополитический город, где перемешано все и вся. И уже словно проступают сквозь барочные здания Венеции, сквозь трубы домов – трубы екатеринбуржских заводов. И город по своему внутреннему микроклимату воспринимается ни как Венеция, а как Екатеринбург. И вода в канале кажется ни водой, а темной задымленной улицей современного Екатеринбурга. И не итальянка, а русская барыня ХVIII века правит этот карнавал.
Снова приходит на ум сравнение этой картины со статичным фото, где «чернобелым» изображены люди, те, кого фотографируют, а «цветным» (то есть в цвете) те, кого фотографируют. Именно их лица както еще оживлены, словно эти люди уловили некий мотив поведения и удачно вписались в этот эклектичный карнавал. Они только во время меняют маски, платья, свои пристрастия, привычки, литературные, художественные стилевые моды и поэтому всегда сыты, одеты и «на плаву». Они только удачно сумели сфотографировать других, «чернобелых» людей и теперь умело используют их в своих целях.
Однако, на картинах не чувствуется ни у тех ни у других радости от такой жизни. Нет чувства подлинной, настоящей, очищающей жизни, «завис» какойто вневременной морок. Время без времени и без лица.
А что же «устроители» карнавала? Мужчина и женщина?.. Он сер – «серый кардинал» – и не доволен происходящим. А она «в цвете» и довольна тем, что они устроили…Но хочется спросить, а когда же, господа, конец вашего карнавала?..
На другой работе «Палаццио Вендрамин – Калерджи в Венеции» (2006 г.), художники развивают этот мотив. Снова женщина «в цвете» и с миской фруктов над головой полуобернулась к нам, словно ее мечта об изобилии воплотилась. А мужчина «засерен», и мрачен. Он настраивает свою лютню и смотрит на картонные декорации Венеции проницательным и тоскливым взглядом. Видимо, ему ничего не остается, как играть печальную музыку своего сердца. И все. И снова статичное зависание от безвыходности ситуации. Мужчина не может отказать женщине в изобилии, и не может сам отказаться от другой, предчувствуемой радости.
Какую же оценку происходящему дают сами художники?.. Мне кажется они, как будто сами «мужчины» своих картин, они настраивают зрителя на разговор об истинном и ложном, но ответа на него не знают. Они ставят проблему, и ждут на нее ответа. А мы, зрители, сами вынуждены докапываться до истины.
Мы смотрим на картину «Приглашение на прогулку» и удивляемся отрешенности лиц персонажей. Все они словно играют в какуюто игру, все они как будто статисты на «празднике жизни», у всех у них нет ощущения реальности от происходящего. Вспоминается М. Шемякин, который тоже ставил проблему застывшего времени и зависшего карнавала. Снова вглядываясь в картины, замечаем, что «кайф» от происходящего испытывают только молоденькие девушки, которые в том возрасте, когда театр, творящийся вокруг, еще по душе. Но и они словно спрашивают друг друга взглядом: «Что же, все это серьезно?» А взрослые вокруг прилежно выучили роли и очень серьезно во все это играют. И ничего серьезного. Жизнь, смерть, любовь, общественные отношения, религии, искусства – все становится лишь театром, лишь карнавалом. Словно стерлись границы между этими понятиями и люди стали одинаково пестрые и пустые.
В работе «Бахчисарайский фонтан» (Посвящение К. Брюллову и А. Пушкину) мы видим скучающих женщин без мужчин. Они играют в свои гаремные игры. Но более маняще и соблазнительнее всего выписано дневное небо в проеме средневековой улицы и ночное – отражающееся в витраже, как символы реальности. Именно туда стремятся мечты этих женщин. Каждая была бы наверное не прочь быть там вместе со «своим» любимым и единственным мужчиной.
Поэтому насмотревшись на это пустое пиршество, словно объевшись пироженных, хочется чегото подлинного и настоящего, как хлеб и молоко, как картошка с зеленым луком на свежем воздухе. А если уж искусства, то выдержанного в одном стиле, насущного, возвышающего и окрыляющего, уводящего за горизонты и помогающего разрешать душевные проблемы. Про настоящую жизнь, любовь, боль и настоящую смерть.
В этом свете выставка получилась, словно камертон современного времени. Она словно ставит диагноз современной культуре. Возможно художники этого и добивались, но не чувствуется в работах авторской оценки, авторской позиции. Есть только констатация факта, есть почти что фотодокументальность стиля постмодерн. И это – огорчает.
Юлия ЗОЛОТКОВА