
«На всякого мудреца довольно простоты»
Да простится мне музыкальное сравнение, но я вспомнил аккустический концерт «Eagles» на МТВ, который они сразу начали с «Отеля Калифорния». Просто, без затей вышли и сходу сыграли то, что обычно оставляют на самые распоследние бисы.
Малый театр открыл гастроли беспроигрышным бенефисным Островским. Любимые артисты выходили под аплодисменты и шепоток узнавания: «Клюев...», «Муравьева...», «Быстрицкая...». Но в актерском существовании не было и намека на «антрепризность». В этот вечер мы увидели идеально сыгранный ансамбль, и при этом яркие актерские индивидуальности. Они работали чисто, красиво и, при этом, чрезвычайно внутренне наполненно.
Что поразило прежде всего Островский, который играется абсолютно в жанре, без ложного осовременивания, нагромождения драматических смыслов и всяких там подтекстов. Но, при этом, мы с шефом поглядываем друг на друга, неловко улыбаясь как похоже, а?
Отдельных слов заслуживает сценография. Перемена картин происходит на пустой сцене вращается круг, перемещая статичные декорации, стелется тяжелый инфернальножутковатый дым (не привычно искуственный, а именно густой, нездешний), а потом стремительно опускается многослойный яркий задник: окна выходят то в сад, то на улицу но пустота и холод остаются, подразумеваются. Образ найден точный, красивый и, в высшем смысле, театральный.
От финала привычно ждешь стремительного разоблачения и страстного «обличительного» монолога Глумова. Но там вовсе нет трагедии саморазрушения (и в пьесе нет, точно ведь нет). Выбор сделан один раз душа живая продана, дальнейшее ничего не меняет. Пошумят, пошумят да и договорятся. Возможно, поэтому второй акт идет более спокойно, без взрывов иногда даже излишне спокойно.
Подумалось: такие гастроли, случайся они хотя бы пару раза в сезон, могли бы держать в неплохом творческом тонусе и наши коллективы. Можно, конечно, сказать, что Малый театр это консервы. Но, если и так, то это очень вкусные, питательные и полезные консервы. Так необходимые нашему театральному организму.
Антон ПАВЛИНОВ

«Правда хорошо, а счастье лучше»
Как вовремя пошли разговоры про интерпретацию классики в современности! Только и слышно можно или нельзя осовременивать великие произведения, испортит или нет «плохая» интерпретация классику. И вот приехал Малый Театр и показал, что самым правильным ответом на такие вопросы будет простое: «А зачем?»
Традиционно в пьесах Островского видят противостояние тонко чувствующей натуры и закостенелого «темного царства», которое просто забыло, что когдато тоже чувствовало. С разными вариациями утраты души. Казалось бы, что может быть проще?
Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» (режиссер С.Женовач), как и все спектакли неторопливого Малого Театра, идет не меньше трех часов. И все три часа боишься моргнуть, чтобы не пропустить чегонибудь важного, хотя сюжет известен, персонажи архетипны и справедливость восторжествует.
О чем пьеса Островского вынесено в заглавие. О чем спектакль Малого Театра о том, что счастье лучше. Лучше всего. Поэтому зритель негодует в адрес Мавры Тарасовны (Евгения Глушенко), радуется неповиновению Поликсены (Ольга Жевакина) и обожает нянюшку Фелицату (Людмила Полякова). Счастливые влюбленные Поликсена и Платон в финальной сцене спектакля встают на скамейку и оказываются выше всех, на пьедестале победителей. А ведь до этого Платон (Глеб Подгородинский), со своей никому не нужной правдой, то и дело пытался залезть на скамейку, но люди либо расходились, либо «сбрасывали» его с этого символического пьедестала.
Подобных знаков в спектакле много. Забор наглухо отгораживал маленькую жизнь патриархального дома от целого мира, пока на место «ундера» не взяли Силу Ерофеевича (Василий Бочкарев), который буквально и метафизически открывает двери. И конечно яблоки. Символ яркий, запоминающийся и многогранный: яблоко раздора, символ стыда
Все выдержано в жанре, а то и дело узнаешь вчерашние новости: ктото продает «налево» яблоки, за которые отвечать посажен, ктото измывается над беззащитными нижестоящими по чину, а ктото внучку исключительно за богатого выдать хочет. Присматриваешься к непутевому сыночку Мавры Тарасовны (Виктор Низовой) и его сподручному и узнаешь современных «новых хозяев жизни» в едва уловимых жестах.
Слаженный ансамбль знаменитейших артистов легко и непринужденно удерживает зрительское внимание. И, несмотря на то, что этого классика сейчас вряд ли многие перечитывают, постановка до того оживляет и возвращает нам, зрителям, его текст, что «над собой» в голос хохотал весь зал. Вот такой реализм
Тина ГАРНИК
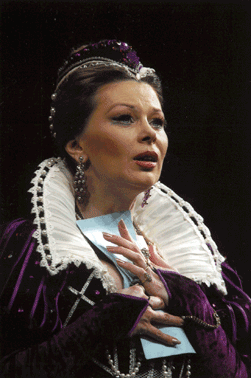
«Тайны мадридского двора»
Малый театр это забытый вкус старых традиций. Дух выветрился, а легенда осталась, или даже так статус остался. Эдакого Императорского театра, замершего навеки в своем величии, не столько творческий коллектив, сколько необходимое по табелю госучреждение, эталон консерватизма. Застывший, как реликт, в пространстве остановившегося времени, музейный экспонат, демонстрирующий каким был театр когдато давнымдавно, лет дцать (или сот?) назад. Навевает он не приятные воспоминания, но скуку. Тени старых мастеров (Ильинского ли, Жарова ли) увы, уже не оживают здесь. И чарующий голос гениального медиума Михаила Ивановича Царева, потусторонне читающий монолог, допустим, Фамусова, уж больше не заворожит, не повергнет зал в ступор.
Пожиже все, поплоше, ничего потрясающего, выпуклы лишь богатые декорации, которые хоть сейчас в виде уменьшенного макета выставляй в фойе на потеху ожидающей третьего звонка публики. Как декорации испанского дворца к спектаклю «Тайны мадридского двора», более чем громоздкое сооружение ни к селу ни к городу нагороженной постановки (а ля Дюма, но без занимательного сюжета) из жизни царствовавших в Европе во времена оно королевских особ. Костюмированная белиберда продолжительностью три часа, полное отсутствие гуманизма по отношению к зрителю. Игра в классичность, в благопристойное театральное зрелище. В роли Карла V и будущей королевы народные артисты, дальше в основном заслуженные.
Чинно, размеренно, не торопясь, вовремя подавая реплики. Ни единого всплеска на ровной глади тихой заводи мертвого искусства. Шалишь, брат, никакого модернизма. Оброненные платки, краденые письма, звон бутафорских шпаг, питье несуществующего вина из пустых кубков. Да! Без танцев сейчас ни в одном уважающем себя действе не обойтись, так пожалте менуэт (или это был падекатр?).
Вдаваться в перипетии проблем мадридского двора также любопытно как ныне следить за политической ситуацией в КотДивуаре или положением дел в дипломатическом закулисье королевства Бутан. Никаких перекличек с современностью в спектакле не ночевало, ну что вы, мы в Малом не такие, экивоков в сторону себе не позволяем. Буря в стакане воды. У одного из авторов «Мадридских тайн» Эжена Скриба был такой водевиль «Стакан воды». С тем же товарищем по перу Э. Легуве создали они еще «Адриенну Лекуврер», вот только новый Таиров пока не народился. А их «Тайны» поделка вполне заурядная, и морально устаревшая. Ей в веке девятнадцатом нормально было купчишек после ярмарки развлекать в театрике антрепренера Такогото про королей пиэса!
Нынешней постановке в Малом в этом году будет без малого 10 лет. На чем она до сих пор держится? Кто в Москве на ЭТО сейчас ходит? Разве что гости столицы в рамках калчапрограммы турпоездки (сначала Большой, потом Малый, и по магазинам через Красную площадь). Ну, и когда на гастроли выедут господа артисты, соберут тогда полный зал, что и случилось в Екатеринбурге холодной весной 2007го. А в партере бизнесмены средней руки в избытке, закаленные на жутких антрепризах чем не реинкарнация тех же самых купцов.
А тонкому театралу кому здесь кричать: «браво, няня!», как в анекдоте? Скажем прямо, только костюмерам. На славу поработали, платья на загляденье. Спасибо авторам костюмов В. Г. Морозовой и В. Д. Лазуренко, а также тем, кто моделировал костюмы, головные уборы и обувь под руководством Т. Г. Коноваловой и Е. И. Евстратовой. Жаль, что они не выходили на поклон.
Евгений ИВАНОВ

«Горе от ума»
Любая постановка «Горе от ума» в наше время это в первую очередь диалог с традицией. Наше внимание обращено не только на интерпретацию знаменитых монологов, но и на нюансы трактовок центральных образов, взаимоотношений и, наконец, ответа на главные вопросы кому горе? от чьего ума? Малый театр, оставаясь вполне в русле этой традиции, дает свой вариант.
Чацкий Глеба Подгородинского напоминает нам о Пушкинских сомнениях он легок, чтобы не сказать легкомысленен, поюношески увлечен собой, чертовски обаятелен. Порой он и сам удивляется словам, которые выпаливает в минуту откровенности, но ему и в голову не придет пожалеть о них, потому что он искренне верит в то, что говорит. Его неожиданное появление вряд ли пошатнет уклад этого дома, он здесь почти что свой. Во втором акте Сергей Женовач вкладывает в уста Хлестовой (Э.Быстрицкая) монолог из первых Грибоедовских редакций, в котором она, перебирая гостей на балу, в язвительности не уступает Чацкому. Да и Фамусову (Ю.Соломин) Чацкий не столько кость поперек горла, сколько нелепая помеха на пути к обустройству будущего дочери. Не появись он так не вовремя глядишь, еще и сели бы рядком, «полиберальничали», посплетничали не без взаимного удовольствия.
В центре нашего спектакля Софья (О.Молочная). Она сильная, страстная и глубокая натура любит Чацкого. Это он «нехотя с ума свел», и теперь Софья не находит себе места ее обморок, ее слезы, нелепая выдумка о сумашествии все это от любви, которая не находит выхода. Этот Чацкий, хоть всю дорогу и бредит Софьей, но никогда еще не пытался как следует вглядеться в нее («Шутить, весь век шутить...», с горечью произносит она). Софья единственный человек, который действительно страдает от ума и обильной рефлексии (актрису порой можно упрекнуть в излишней старательности, но сцена разоблачения решительно искупает все).
Теперь о том, что мешало. Сценографический минимализм: плавающие голые стены, словно холодная смена слайдов; живой звук за сценой, явно не соответствующий аккустическим особенностям площадки; случайные либо продуманные неточности в хрестоматийном тексте. Вопреки ожиданиям второй акт, вместо ожидаемых блистательных выходов выглядел чередой вполне традиционных диалогов представителей «фамусовского общества», о котором нам, помнится, рассказывали в школе. Так и не раскрыта загадка появления Репетилова (постановщики обычно не дают себе особого труда разобраться с этим трагикомическим двойником Чацкого).
Впрочем, речь сейчас не о том. Малый театр предложил нам новый подход к великой комедии, призывая предпочесть искренность игре, открытость сдержанности, яркость чувства холодности ума. Подход не то, чтобы неожиданный, но в контексте этого времени и этого театра весьма оправданный.
Алексей ВДОВИН