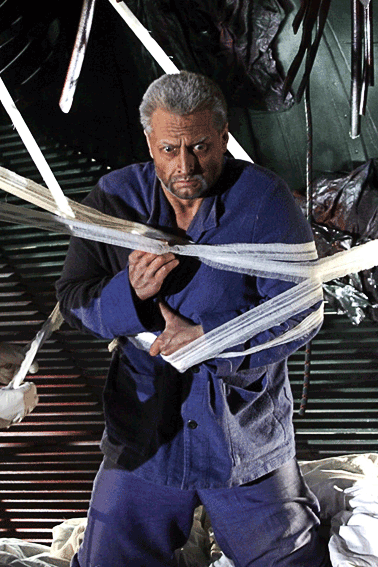
«Упавший с неба». Театр «Геликон-опера». Москва
Не секрет, что с оперой С.Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» связано множество общественных и театральных мифов, легенд и даже анекдотов. Поэтому, далеко не случайно, что «Упавший с неба» в постановке режиссера Дмитрия Бертмана – уникальная и блистательная попытка демифологизировать, все то, что связано со знаменитой (и последней) оперой Прокофьева.
Вероятно, не все свердловские зрители, попавшие на постановку оперы «Упавший с неба» сразу поймут, что пятиэтажный дом во всю ширину сцены, внутрь которого «вписался» полуразрушенный самолет с разверстым жерлом, – это трансформированные и сценически «материализованные» художниками Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой фотографии катастрофы в 1998 году в Иркутске, где самолет рухнул прямо на жилой дом.
Геликоновские сценографы и не скрывали, что именно эти фотографии подсказали им такое решение спектакля. А сам Дмитрий Бертман рассказывал, что больше всего поразило его на этих фотографиях, что когда самолет почти разрубил дом надвое, сквозь освещенные окна можно было разглядеть фигуры людей, которые спокойно сидели и пили чай. Возможно, чтото подобное могло происходить и во время второй мировой войны. На какомто символическом уровне это происходило и на сцене нашего оперного 30го ноября.
Многие критики уже отметили, что в этой постановке натурализм смешан с метафорикой. Думается, сюда следует добавить и сценические символы, отделить которые друг от друга практически невозможно. Да и нет смысла, ибо смысл их – как раз в этой нераздельности. Так на сцену совершено обыденно (т.е. естественным образом) выносят больничные пижамы, судки и разносы. К больничной койке натурально подкатывают больничный бачок с надписью (будто засохшей кровью) «хирургия». Крови самого Мересьева во время (и после) операции не видно, зато в самой этой сцене ампутируемые ноги «явлены» кусками «живого» хлеба – своего рода христианским символом.
Сюжет «Упавшего с неба» развивался совсем не в духе классической оперы, традиционной повести или фильма. Скорее, здесь действие проистекало по законам музыки – с лейтмотивами и контрапунктами, подчиняясь не событиям, а психическим и эмоциональным состояниям. Соответственно, время на сцене текло не линейно, а образовывало кристаллы, то есть будто природные сплавы синхронного и диахронного. Настоящего – с прошлым и будущим, внешнего с внутренним, виртуального с галлюциногенным. В постановке Бертмана каждая деталь, персонаж и действие довольно точно (хоть, может, не всегда органично) находили свое место: кажущаяся неуместной и странной ернически галопирующая увертюра, танцующие под русские народные песни молодые летчики (экипированные под металлистов), призраки прошлого и «живой» призрак самого Мересьева.
Лежа на больничной койке, он видит себя раненого, корчащегося от боли в лесу после воздушного боя. В сознании его возникает и тут же материализуется его невеста Ольга, рассыпающая лепестки ромашек по сцене. Его мать натягивает шерстяной чулок на железный протез ноги, а до того бормочет, словно в нарицание: «Леша… береги ноги», как раз в тот момент, когда врачи решают ему сделать страшную операцию. Нельзя, конечно, не отметить в этом же ряду и чисто режиссерский трюк Бертмана, который не отказывает себе в удовольствии привязать к койке, где лежит Мересьев, пропеллер и пытаться запустить героя в полет, о котором тот только и грезит. Трагикомическое и, отчасти, постмодернистское воплощение мечты калеки со скрытым горьковским и горьким подтекстом: кто может только «…ползать, летать не может».
Первая реплика Алексея, которого на больничную койку – «Подшибли...», – звучит не как в либретто – в лесу у разбитого самолета, – а на больничной койке, куда его буквально сбрасывают. И герой (во всех смыслах этого слова) не столько обращается к вражеским летчикам или безжалостным хирургам, сколько подводит итог жизни, завершающейся отнюдь не в героической обстановке.
В спектакле сосуществуют два Мересьева – старый и молодой, и их партии поделены почти поровну, хотя основную нагрузку берет на себя первый. Помимо «призраков» вокруг героя такие же, как он, одинокие старики, равнодушные врачи и санитары, не брезгующие подтянуть шоколад из тумбочек нищих больных, как и его соседи по палате. Одни подъедают за героем остатки пищи и перебрасываются с ним в карты, другие требуют воздержаться от суицида, распевая: «Ведь ты же советский человек!», – сквозной лейтмотив и Б. Полевого, и Прокофьева. A propos о музыке.
Музыка Прокофьева обретает новую жизнь благодаря неожиданным акцентам (цитаты из «Александра Невского» – разительный стилевой контраст сложным вокальным партиям оперы). «Невский» отлично передает энергетику, дух военной поры, патриотический настрой в хоре «Вставайте, люди русские» и страшную послевоенную пустоту в соло меццосопрано «Я пойду по полю белому». И музыкальная цитата, сопровождающая движение тевтонских рыцарей («неприятная для русского уха», по словам самого Прокофьева), как образ нашествия фашистов, и гимн России в заключительном хоре «На Руси родной не бывать врагу».
Идея скрестить «Повесть» с музыкой «Александра Невского» идет от постановки Большого театра двадцатилетней давности, которую подал Альфред Шнитке. Бертман выбрал из трехактной партитуры лучшие эпизоды: очаровательную хоровую песню «Зеленый дубок», колоритные танцы и потрясающую по трагическому накалу сцену бреда Мересьева. А для большей драматургической объемности ввел, помоему, три номера из кантаты «Александр Невский».
Поразительно, как в постановке этого гениального музыкального бреда вырисовывается забытый своими родными герой, которого навещает лишь немецкий журналист. И оказывается, что зритель смотрит не жизнеутверждающую историю о беспримерной стойкости советского человека, но трагическую притчу о том, как человек, выживший в катастрофе, обречен переживать ее вновь и вновь в стране, где катастрофы (по крайней мере, в СМИ) занимают место не меньшее, чем триллеры или боевики. Отсюда и название – «Упавший с неба», – почти что «падший ангел» – вместо авторского «Повести о настоящем человеке».
У Полевого повесть заканчивается письмом к любимой, Прокофьев осчастливил Алексея в финале личной встречей с Ольгой. В спектакле Бертмана ничего подобного нет. Алексей – одинокий пенсионер, доживающий свои дни в больнице. История молодого героя разыгрывается лишь в его воображении. И в финале старику уготованы лишь горькие рыдания в объятиях немецкого корреспондента – единственного человека извне, у которого есть к нему интерес.
Ну, так какому ж герою на Руси жить хорошо?
Игорь ТУРБАНОВ