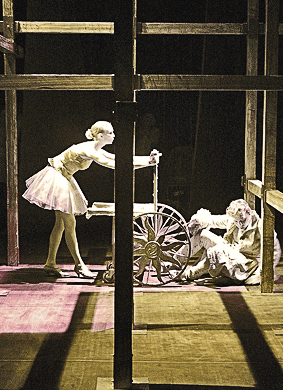
Шекспир – жив
Саратовский театр кукол с трогательным названием «Теремок» замахнулся на самого Вильяма Шекспира. Спектакль «Сон в летнюю ночь» Геннадия ШУГУРОВА завершал третий день фестиваля, когда публика еще была под впечатлением только что отыгранного премьерного спектакля хозяев фестиваля «Бобок».
Театр обращается к классикам, чтобы рассказать поновому привычную историю. Публика из века в век не остается прежней. Мы желаем свежего и оригинального прочтения «избитых истин», но ожидаем его на привычном нам языке. Если это Достоевский – он должен пугать, обнажать затаенные чувства. Если это Пушкин, то разве не должен он быть остроумным и сатиричным? Как перевести сказанное века назад на живой язык, понятный нам? «Шекспира – современной молодежи», – провозглашает режиссер. Пусть зритель находит в героях «Сна» самого себя, переживает с ними, погрузится в мир, где возможно волшебство, и в лесах обитают обнаженные феи.
С первых звуков спектакля можно понять, что это – не Шекспир в его привычном, «школьном» переводе. От классической музыки режиссер отказывается, она не способна более служить посредником между современным зрителем и «тайной летней ночи». Привычную атмосферу разрубают ритмичные барабанные удары, с нарастающим темпом, они заставляют всматриваться в зияющую темноту сцены, из которой выступают едва прикрытые тогами женские и, натянутые как струны, мужские тела.
Деревянный «лес» на сцене напоминает спортивные гимнастические брусья и снаряды. Такая скупая сценография создает ассоциацию, скорее, с городскими «джунглями», чем с густым лесом.
Женские костюмы, сильнее всего возмутившие почтенное жюри, не менее симптоматичны для нашего времени. Тело незачем стеснять корсетами, длинными тогами и рукавами, когда в нем кипит молодость и кричат эмоции. Однако, по мнению критиков, актеры так и «прокричали» весь спектакль, не отличаясь при этом хорошей дикцией.
Недостатки актеров можно объяснить их молодостью и небольшим опытом, но в этом можно увидеть и преимущества. Зрителя все труднее «провести», и он уже вряд ли поверит в невинность 60летней Джульетты, будь это хоть сама Сара Бернар.
Кукольные диалоги, перемежающиеся с «живым планом», усилили эмоциональный эффект. «Издевательские» куклы были не столько привлекательны, сколько заразительно смешны в истерических сценах погони и признаниях в любви. Импульсивность и живость кукольных сцен подогревали атмосферу всеобщего будоражащего веселья. А зал на полтора часа погрузился в торжество Диониса.
Злые шутки и ехидные издевки звучали даже там, где не приложил руку проказливый фавнпан с картины Бакста, – одновременно и персонаж спектакля и символ безудержного веселья. И зал смеялся вместе с героями – и над ними. А разве это не значит что Шекспир – жив? Значит, режиссеру всетаки удалось передать самый сок и цвет молодости с ее эмоциональностью, максимализмом, непостоянством и буйством жизни, воссоздать мир бурлящей фантазии.
Значит, всетаки это был шекспировский «Сон», хоть и «приснившийся» людям из другой эпохи. И как бы не было трудно поновому поставить и сыграть Шекспира, в его 300 лет, еще одному режиссеру это удалось. Оставшись в тени Достоевского на фестивале, этот «Сон» не получил наград, но нашел своего зрителя.
Юлия МИХОЯНОВА