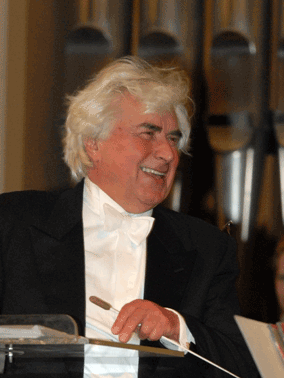
«Такого концерта у меня еще долго не будет»
Первый и единственный после 16-летнего отсутствия в России концерт знаменитый дирижер Дмитрий КИТАЕНКО дал в Свердловской филармонии. Вечер с Уральским филармоническим оркестром (исполняли великих австрийцев: «Линцскую» симфонию Моцарта и Девятую Малера) стал одной из главных кульминаций сезона. В прошлом главный дирижер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и художественный руководитель симфонического оркестра Московской филармонии, народный артист СССР, профессор Консерватории Китаенко с 1990 года живет на Западе и гастролирует по всему миру.
Как сложилась ваша жизнь после отъезда?
За эти годы я возглавлял несколько коллективов, 6 лет был главным дирижером Оркестра Франкфуртского радио. Работал в норвежском городе Берген, история оркестра которого, помоему, перевалила за 250 лет, за его пультом стоял сам Эдвард Григ. Работал в Копенгагене с оркестром датского радио, в Берне с филармоническим оркестром. И большоебольшое количество гастролей: Америка, Англия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания…
А сейчас вы возглавляете какойлибо оркестр?
Я решил немножко передохнуть от шефских забот. Было много предложений, но меня они не очень интересовали. Не предоставляется такой вот идеальный вариант, как здесь, в Екатеринбурге: директор филармонии и главный дирижер, работающие в полном контакте и, конечно, губернатор, патронирующий оркестр. Такой треугольник трудно найти.
Дирижер, повашему, – это полководец, который ведет за собой войско, медиум между композитором и публикой, или это некий гуру, духовный пастырь для оркестрантов?
Я думаю, все должно присутствовать. Полководец – да, надо принимать на себя какието ответственные решения, как я говорю: лучше хирургическая операция, чем длительное терапевтическое лечение. Быть посредником между оркестром и публикой – да. Но двумя словами я бы определил профессию так – интеллигентность и интеллект.
Но ведь не только интеллект, музыкальная одаренность, но и физические усилия. Известно, что дирижеры за концерт даже в весе теряют. Как вы свою форму поддерживаете?
Она както поддерживается, я вообще специально на себя не давлю. Делать 50 приседаний или отжиманий, душ ледяной, – нет. Я все делаю по внутреннему желанию. Катаюсь на лыжах, на горных и на кросскантри, но не как сумасшедший. Люблю велосипед. Но больше всего, когда выдается свободное время, люблю гулять пешком. И молчать. И в этот момент, как ни странно, вдруг могу решить: как какоето место в какойто симфонии должно получится. И когда прихожу домой, фиксирую в партитуре.
А с музыкальными театрами у вас сейчас складываются какието истории, или опера перестала вас занимать?
Только в результате неудачных опытов и встреч с режиссерами. Раньше у нас было подругому – дирижер с первых дней был вместе с режиссером, художником, мы принимали макет, дирижер выбирал состав певцов. Сейчас дирижер приезжает максимум за две недели до премьеры. Состав назначен дирекцией, у режиссера свой концепт, художник нарисовал нечто свое, и входить во все это лишь какимто звеном – мне непонятно, зачем.
У вас огромный репертуар, есть ли чтото из музыки, что вам особенно хотелось бы сыграть?
Я очень мечтаю поставить «Огненного ангела» – и именно с русским режиссером.
А как отреагируете, если вас пригласят в какойнибудь российский театр на постановку как раз «Огненного ангела»? Ну, скажем, в один из главных театров.
Я сейчас затрудняюсь ответить, потому что не знаю жизнь российских театров. Думаю, что у меня может просто не получиться.
По причинам внемузыкального толка?
Да, в работе я достаточно самоорганизован и требую невероятной организованности от всех, кто меня окружает в этот момент и в этот период.
Сколько концертов в год вы играете?
Сейчас я резко ограничил, у меня примерно 80 концертов. Раньше было больше. 80 – это тоже много, и я хочу уйти в зону 60ти.
А как вы определяете уровень того или иного оркестра, с которым вам предстоит работать?
Это зависит, прежде всего, от контакта, который вдруг может установиться или нет. Я вспоминаю одного известного дирижера, уже ушедшего из жизни. Он приехал в один оркестр, тоже известный, сел за пульт и 10 минут, как говорится, «зондировал почву», а потом положил палочку и сказал: «Я думаю, что у нас с вами ничего не получится». Понимаете? Вот я думаю, что в этом честность невероятная, если нет контакта. Я никогда не бросаю палочку и не обижаю артистов оркестра, но иногда бывает так, что дипломатический диалог – есть, но более тесного сотрудничества не получается.
В таком случае, как складывался ваш роман с УАФО?
Период ухаживания продолжался примерно 3 года, так получилось, что гастроли Уральского оркестра были территориально недалеко от моих. Мы встречались с директором Свердловской филармонии Александром Колотурским и Дмитрием Лиссом, он был студентом у меня в Консерватории, вели переговоры. И я както сказал: «Так не может быть. То, что вы мне рассказываете, – чтото нереальное, я должен проверить это сам».
Ну и как?
Я прилетел в город, в котором был последний раз в 80м году, я помню эту сцену, этот зал. Но сейчас я почувствовал, что филармония совершенно другая, дух другой. Оркестр поразил меня на первой же репетиции: серьезная, спокойная, деловая, профессиональная атмосфера – каждый на своем месте. И мы прочитали всю эту огромную махину Малера с начала до конца, что само по себе невероятно, на первой репетиции! Ну потом, конечно, я взялся за пылесос, и мы начали работать, мощно, я бы так сказал, все время поднимаясь на другую качественную ступеньку.
Чем продиктован ваш выбор такой сложной программы?
Комуто может показаться странной ассоциация – Моцарт и Малер. Я хотел взять программу для Уральского оркестра по максимуму, потому что я много слышал о нем. Моцарт – вершина трудности и легкости, и я поражен, как музыканты его играли. А Девятая симфония Малера – последняя, в ней очень ощутимо расставание с жизнью. И я подумал: «Бурного и шумного окончания концерта я не хочу, потому что приехал в город, в котором погибла царская семья». Мне хотелось не впрямую, но както выразить свое отношение к этим страшным событиям.
А чем екатеринбургский оркестр отличается от западных ?
Невероятная эмоциональность! Вот то, что отличает вообще русские оркестры от прагматизма и холодка западных коллективов. У них и музыка такая, в общем, довольно рациональная. А у нас же как Рахманинова возьмешься играть, распахнешь окно – аромат сирени тут же пойдет!
А были проблемы?
Да, есть проблема: это зал, сцена, она мала для оркестра, музыканты соседних групп просто не всегда хорошо слышат друг друга, и это накладывает дополнительный стресс и дает напряжение. Я думаю, что этот оркестр в других залах, находясь на гастролях, звучит совершенно иначе.
Могу подтвердить, мне довелось слышать его за границей, он звучит подругому…
Вот, понимаете? Нужен другой зал, потому что оркестр давно перерос этот зал, в котором они должны сейчас работать, и это им не помогает.
К счастью, в Екатеринбурге собираются строить новый концертный зал. А если Уральский оркестр сравнивать с теми, с которыми вы постоянно работали, то это сопоставимо, или всетаки разные «весовые категории»?
Повторю, в каждом зале оркестр звучит подругому. Если в этот зал посадить венских филармоников, то я не думаю, что это будет «нечто». А вот если посадить ваш оркестр на сцену Венской Филармонии – Мюзикферайн, то это произведет невероятное впечатление мощи, красоты и эмоциональности. УАФО можно поставить вровень с оркестрами такого класса, как Оркестр Штутгартского радио, Оркестр Берлинского радио. Уральский оркестр намного выше, чем, допустим, оркестр ОслоФилармоник. Но вообще с этими рангами надо быть осторожнее…
Встреча с русской публикой вас обрадовала, вдохновила или разочаровала?
Я вообще поразился тому, что Малер, а ведь это не самое известное сочинение для публики, был воспринят ею замечательно. Это говорит о ее высоких потребностях, и, конечно, о том, что отличает русскую публику, от, скажем, американской. Ну просто никакая, можно сказать, там публика. Хлопают много, свистят, кричат, но – никакая.
А в чем это проявляется?
Они другие. Публика, которая приходит в наши залы, мне кажется, приходит работать. А там приходят посидеть, поглазеть, рассказать, что он там был, может, даже переговорить с кемто о делах. У нас еще, я думаю, публика не так отравлена рекламой, как там. Там, в общемто, идут на картинку. Вот если завешен весь город рекламой Джесси Норманн, значит «Мы должны пойти». А как она будет петь? Это уже неважно. А здесь! Играли бы мы, оркестр, не так вдохновенно, как вчера, и зал бы это тоже почувствовал. Вот в этом разница. В Японии – похлопали, похлопали, раз – и тишина. Аплодисменты – это не итог концерта. И аплодисменты, и ладошки – они разные. Вот русские ладошки – они идут от сердца с благодарностью. А там ладошки – «слава Богу, закончили. Ну, пошли».
Вы хотели бы больше работать в России?
Я могу сказать, что есть потребность чисто эмоциональная, просто нет конкретных вариантов. Почему я не играю в Москве, в Ленинграде? Я не могу приехать, когда мне говорят: «Приезжайте через три месяца», – у меня все расписано до 2009 года. А долгосрочное планирование еще не вошло здесь в норму жизни.
Вы считаете себя человеком мира или посланцем русской культуры?
Нет, я человек русской культуры.
На скольких языках вы разговариваете?
На трех.
А думаете на каком языке?
На русском. За эти годы, что я жил не в России, я сыграл столько русской музыки! За последние годы я записал к юбилею Шостаковича с оркестром кельнского радио все его 15 симфоний. Для меня это был невероятный этап внедрения этой атмосферы в немецкий оркестр – за два года записать весь цикл! Это очень большая работа. Я думаю, что каждый крупный музыкант обязан исполнить все симфонии Шостаковича и прожить жизнь этой страны тех лет, особенно если он из России. Магнетизм музыки Шостаковича огромен, причем это подвластно только музыкантам, которые не думают о технических проблемах. Вот Десятая симфония Шостаковича начинается – белый снег, Сибирь, дорога… И вот нижние струнные – идет эта бесконечная вереница… Мой отец десять лет был в лагерях, невинный. Как я могу это не ощущать?
Ваш екатеринбургский концерт – возвращение в Россию после 16 летнего отсутствия. Вы осознавали его необычность?
Безусловно… После концерта, не спал почти всю ночь, потому что такие концерты остаются в памяти надолго. Если говорить об эмоциональной отдаче оркестра, трудно предположить, чтобы это могло быть лучше. Такого единого порыва сердец добиваешься очень редко. Я думаю, что такого концерта у меня еще долго не будет.
Беседует Лариса БАРЫКИНА