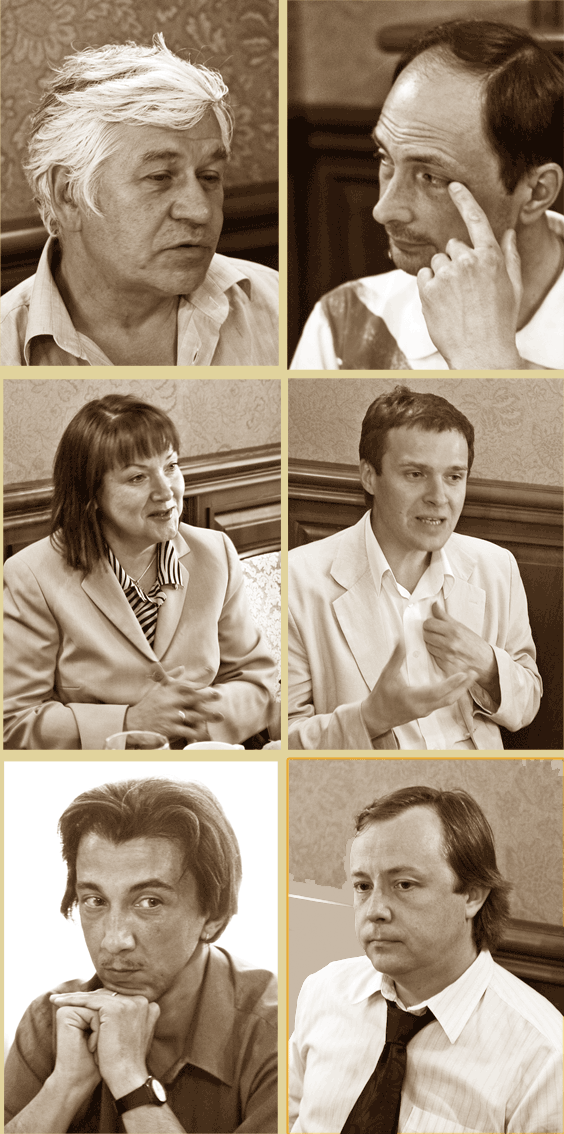
Социальное партнерство: театр, власть, бизнес
Театр, власть и бизнес – взаимоисключающие понятия. У них совершенно, различные задачи. Они, каждый по-своему, подходят к решению тех или иных вопросов. Но, тем не менее, они находятся на одной территории, в одной стране, в одном обществе и вынуждены искать точки соприкосновения. К разговору об этом мы пригласили преставителей всех заинтересованных сторон.
«Театральный сезон». Было время, когда наши театры вынуждены были согласовывать репертуар, кадровую политику, не говоря уже о своей экономической деятельности. Сегодня возникает опасение, что эта практика может вернуться. Насколько, повашему, она обоснована?
Владимир МИШАРИН, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество). По закону сейчас ни один театр не обязан согласовывать с учредителем свой репертуар – ни государственный, ни, тем более, частный. Что же касается финансового аспекта деятельности театров – «золотые времена», когда можно было делать, «что хочешь», безвозвратно прошли. Сегодня за государственную поддержку приходиться бороться. И театр, как мне представляется, должен учитывать те приоритеты, которые государство в данный момент для себя формулирует. Другое дело, что механизмы, которые использует власть, не всегда адекватны задачам театра: сначала Гражданский кодекс задал одни правила игры, потом, когда появился Бюджетный кодекс – театр попал уже под систему федерального Казначейства, а значит под финансирование по сметному способу. И все это, конечно, сильно влияет на театральную, репертуарную политику.
Т.С. Получается, что государство уравняло театр со сферой массового досуга, совершенно не выделяя его социально значимую роль?
М.В. Дело не в том, что государство не видит в театре особой ценности. Сегодня практически отсутствуют прецеденты, когда закрываются государственные театры. Просто чиновники ставят перед театрами конкретные вопросы. Главный из них – найти и сформулировать «индикаторы» социальной эффективности театральной деятельности, что, в конечном итоге и должно определять объем государственного финансирования. «Колядатеатр», например, не использует государственных средств, но, при этом он, безусловно, эффективен на данном этапе своего развития.
Другой пример. Ректор нашего театрального института В.Г. Бабенко сетует на проблему сокращения бюджетных мест – следовательно, ему необходимо доказывать социальную эффективность своего учебного заведения, показать в конкретных цифрах, которые будут убедительнее слов, говорить о его социальной миссии: сколько выпускников работает в театрах, в сфере культуры. И, вообще, сколько среди них социально активных, полезных обществу людей. Тогда государство сможет отчетливо понять, что его вложения были сделаны не напрасно.
Т.С. Видимо, в современной России не забыт советский опыт гарантированного финансирования театров из госбюджета.
М.В. Не просто не забыт. Свердловская область – наиболее благополучна в этом смысле. У нас 30 театров – после Москвы и, СанктПетербурга, а это третий показатель по стране. Кроме того, Екатеринбург один из семи городов России, в котором есть театры всех жанров. И местные театры, которые финансируются из областного бюджета, чувствуют себя достаточно благополучно.
Александр КОРОБОВ, ведущий специалист Министерства культуры Свердловской области. Если вспоминать советское время, то сметы тех лет учитывали все – резинки, скрепки, любые мелочи. Существовала строгая и детальная отчетность. Были такие руководители культуры – в том числе, руководители областного масштаба – которые лично читали пьесы и единолично принимали решение об их постановке или запрете. Хорошо помню, как в Оперном театре ставили «Ивана Сусанина», готовили спектакль на гастроли в Москву. Казалось, никакой особой крамолы там не усмотреть. Но увидели – во время прогона мелькнула иконка, маленькая такая иконка, как элемент декорации. Все, спектакль сняли, и был большой скандал.
В.М. При этом театр не имел права, ни на какие другие источники доходов, кроме как государственного финансирования и средств от продажи театральных билетов. Не дай Бог чегото там сдать в аренду!
Т.С. Но, ведь существовала шефская помощь?
А.К. Да, ездили на заводы со спектаклями и концертами. В ответ предприятия машиной могли помочь или стройматериалами. А сейчас мы поддерживаем только отдельные статьи расходов – зарплату, налоги, ремонт. И если раньше мы финансировали четырепять премьер в год, то теперь можем делать это только частично, и призываем театры самостоятельно, искать внебюджетные источники. Наиболее успешный пример подобной деятельности – Областная филармония. Половина средств – государственное финансирование, половина – самостоятельные источники.
М.В. Это хороший пример грамотного использования административного ресурса. Согласитесь, первые члены попечительского совета Свердловской государственной академической филармонии, были «назначены» Губернатором Свердловской области в виде, так называемого, неофициального «социального налога».
Александр ФУКАЛОВ, актер, зав. литературной частью Театрального Центра «Волхонка». При всем уважении к нашей филармонии ее деятельность нельзя сравнивать с работой театра. Ибо театр создает полностью самостоятельный продукт, а филармония – это большей частью концертная площадка. Театр – это в первую очередь производство.
А.К. Частный театр вполне может претендовать на государственное финансирование – если вовремя оформит свою заявку, которая в дальнейшем проходит у нас соответствующую экспертизу.
Т.С. Кстати, а что, кроме душевного порыва может привлечь отечественный бизнес к поддержке наших театров?
Надежда СОФРОНОВА, президент Ротари клуба г. Екатеринбурга, генеральный директор аптечной сети «Лекарства Урала». На мой взгляд, интерес людей бизнеса к поддержке театра можно объяснить их пониманием благородной сути этого дела, но никак не финансовыми соображениями. Государству пока нечем повысить наш интерес к партнерству с театрами, а у российского бизнеса нет еще серьезной возможности повлиять здесь на государственную политику.
А.Ф. На последние две постановки мы привлекали к участию бизнес. Мы постоянно обращаемся к деловым людям с предложениями поучаствовать в театральном развитии нашего театра – в любых формах. Вот недавно к нам пришел человек, из числа постоянных зрителей с вопросом – сколько у нас стоит спектакль. Называю ему сумму, а он меня спрашивает – если я вам дам эти деньги, вы поставите спектакль к моему дню рождения? Пусть потом он останется в вашем репертуаре, я не буду предъявлять на него никаких прав.
Н.С. И вы поставили этот спектакль?
А.Ф. Еще нет – день рождения осенью – но думаем о нем.
А.К. Такая помощь для вас – разовое явление или есть постоянные партнеры? Вот театры с попечительскими советами, имеют их постоянную поддержку – Оперный, Музкомедия, Драма.
В.М. Я уверен, что ни в одном театре Свердловской области не работает Попечительский совет так активно, как в Филармонии.
А.Ф. Мы мечтаем о попечительском совете. Мы могли бы тут же назвать сумму, которая нам нужна разово – чтобы спокойно существовать, ни о чем не задумываясь.
Т.С. Что в этой ситуации показывает нам зарубежная практика? Может, стоит чему – нибудь поучиться у других стран?
В.М. Россия, пожалуй, больше тяготеет к американской модели. В Европе объем спонсорской поддержки театру ничтожен. А в Америке существуют вполне определенные налоговые льготы для предпринимателей и любых частных лиц, участвующих в благотворительной деятельности. С одной стороны государство, конечно, теряет свои доходы в бюджет, но с другой – освобождает себя от многочисленных забот: кому давать, сколько давать, что театрам ставить, а что не ставить и почему. В России до 2000 года все было вполне аналогично, была замечательная льгота – с налога на прибыль. Мы встречались за таким же столом с бизнесменами, и я их спрашивал: сколько денег вы должны заплатить с налога на прибыль? Они отвечали: вот столькото. Так дайте эти пять процентов на театральное дело, и получайте взамен весь набор спонсорских услуг – хвалебное упоминание в афише и полное информационное обеспечение. И мои партнеры, которые, в общемто, явно не стремились показывать свою прибыль государству, охотно шли на это. По нынешним же правилам, оказывая спонсорскую помощь, бизнес не получает право на последующие налоговые вычеты. При этом сохраняется налоговая льгота для физических лиц. Этот механизм довольно сложен – и он не стимулирует заинтересованных людей помогать театрам. А ведь стимулом могли бы стать и государственные награды, и знаки отличия, и общественное признание. Давайте признаем, что и в самих театрах сегодня слишком низок уровень маркетинговых технологий. Деловой человек даст денег, если у него их умело попросить – убедить, заинтересовать, но для начала его следует хотя бы просто пригласить в театр.
Н.С. Я думаю, меценатство в нашей стране во многом осторожное еще и потому, что нет уверенности, что выделенные на культуру деньги пойдут по назначению. Та же Америка, в отношении денег, очень честная страна. Мы еще не настолько уважаем деньги, как это свойственно людям на Западе. И до тех пор, пока у нас не будет культурного отношения к деньгам, они не потекут в театр рекой.
В.М. А что вам, как бизнесмену, дает участие в деятельности Ротари клуба, в этой общественной работе, которая, наверняка, не так эффективна, как прямые маркетинговые технологии?
Н.С. Надо сказать, что в Ротари продвижение своего бизнеса не поощряется. Члены Ротари клубов, как правило, успешные бизнесмены. За время, которое нам государство отпустило, мы очень много работали, создавали свое дело. Наверное, это приходит, либо с возрастом, либо в результате успеха – ощущение того, что ты можешь и хочешь проявить себя в чем – то другом. Желание что – то улучшить – а у нас есть к чему приложить свои силы – оно бесспорно впечатляет. Рождается естественная гордость за наши конкретные дела. Так в этом году мы поддержкой конкурсов юных талантов и участием в программах международного обмена молодых специалистов. Сейчас многие серьезные бизнесмены озабочены собственным пиаром. Они думают, как оставить свое имя в памяти потомков. И если мы платим немалые деньги за рекламный щит, то лучше за эти же деньги связать имя своей фирмы с культурой. Главное, чтобы театры делали нам такие предложения. Или, может быть, вам выгоднее получать большие средства от одной крупной компании, чем работать с малым и средним бизнесом?
А.Ф. Задам вам встречный вопрос. Любой компании достаточно просто повесить через улицу растяжку с логотипом и телефоном. А театр, который будет размешать свою растяжку с логотипом этой фирмы, заплатит те же деньги. Что фирме интереснее продвигать – свое имя или имя театра?
Н.С. Если руководитель думает о поддержании репутации, создании позитивного имиджа своего предприятия, то, разумеется, выгоднее сотрудничать с театром.
А.Ф. Сложность заключается в том, что нужно искать не просто людей, у которых есть деньги, а тех, кто сознательно готов их вкладывать в развитие культуры.
А.К. Добавлю – которые сами связаны с культурой, какимто образом, или с ней связаны их корни. Есть у меня знакомый, успешный бизнесмен, который недавно, вспомнив свое музыкальное образование, стал сочинять музыку. Это его личная тяга к искусству. А если человек в душе не тянется к культуре, искусству, то никакие уговоры ему не помогут.
Н.С. Бизнесмену выгодно иметь таких работников, для кого жизненно значимы истинные, нравственные ценности, которые как раз и воспитывает театр. Нам важно, чтобы люди были образованы и культурны. Поэтому мы поощряем своих сотрудников билетами на спектакли, устраиваем корпоративные посещения театров. А ведь многим нашим коллегам по бизнесу зачастую даже не приходит в голову подобная идея и они до сих пор дарят чайники своему персоналу.
А.Ф. Мы в театре разработали пакет партнерских предложений. Именно партнерских, потому что нам не очень нравится само слово спонсор. По сути, наше предложение одно – вы можете спланировать свои отношения с театром от одного мероприятия, до целого абонемента. Давайте спланируем это вместе – и сделаем так, как вам будет удобно. Надо только ходить и разговаривать, убеждать руководителей предприятий, что мы тоже помогаем развивать их бизнес.
В.М. В настоящее время на рынке рекламы огромное количество предложений. А предприниматели порой не знают, что через театр можно «продвинуть» свое дело и тем более того, насколько такое продвижение бывает эффективным. Я думаю, что редкий театр готов сегодня дать бизнесу обоснованные предложения на этот счет.
Т.С. Мы постарались представить себе образ идеального бизнесмена и государства – по отношению к театру. Но не будем забывать и третью сторону – о чем говорил Александр Калягин на II всероссийском театральном форуме, об ответственности театра перед обществом.
А.Ф. Пожалуй, в театрах какойто период был застой. На нас сильно отразились общественные перемены. Это сейчас театры выходят на другой уровень, возвращаются к тому, что сцена снова становится кафедрой, про которую в свое время сказал еще Гоголь. И я, готовясь к встрече со зрителями, каждый раз задаю себе вопрос – о чем сегодня с ними буду говорить со сцены? Что меня сейчас волнует?
В.М. Ведь, по большому счету, мечта Станиславского и Немировича так и не осуществилась. Они мечтали о высокохудожественном и, одновременно, общедоступном театре, а самые дорогие билеты были именно у МХТ – и в зале оказывалась соответствующая публика. Задачи театра, его ответственность перед обществом, на мой взгляд, остаются прежними: работать для самого разного зрителя и при этом стремиться к высокому уровню сценического искусства. К сожалению, по сегодняшней статистике самыми популярными пьесами в России оказались комедии западных авторов. Очевидно, что наступил принципиальный момент, когда каждый театр должен для себя решить: либо он делает кабаре, либо всетаки «театркафедру». И уж после этого без колебания стремиться к достижению поставленной цели.
А.Ф. Да, но мы попрежнему в значительной мере зависимы от кассы, стоимости билетов, аренды помещения. И если повышается аренда – то соответственно вырастает и цена на билет.
В.М. Некоммерческие организации на сегодняшний день полностью приравнены к коммерческим, и жизнь их усложняется все больше и больше. Если государственные театры еще могут заложить в свой бюджет компенсации от государства в связи с отменой налоговых льгот, то, что делать частным театрам или общественным организациям?
Т.С. Мы вновь вернулись к тому, с чего начали – к законодательству.
В.М. С чиновниками, которые разрабатывают законы, с депутатами, которые их принимают, необходимо упорно и кропотливо работать. Бизнес активно лоббирует свои интересы, отстаивая свои позиции, а некоммерческая сфера пока только теряет, теряет и теряет. СТД налаживает работу по лоббированию, которое существует у нас пока, и надо это признать, только в криминальном смысле. Законы сами не родятся, и чиновники всегда их пишут «под себя», чтобы им было удобно их исполнять. Надо последовательно и цивилизованно контролировать законотворческий процесс государства. Представителям власти подчас не хватает конструктивного диалога с профессионалами.
Т.С. Главное – понять, что все в наших руках. Всем нам необходимы постоянные встречи, контакты и деловые обсуждения, требуется нормальная работа на цивилизованном уровне. И тогда любые спорные вопросы, которые неизбежно возникнут, можно будет решать без эмоций, скандалов или общественных возмущений.