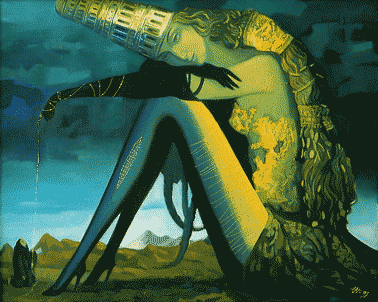
Дорога мечты, дорога жизни
Название выставки
Анатолия ШУБИНА «Реальный театр», которая проходит в Доме актера, очень
точно выражает ее концепцию. Это срез мечты и действительности, та грань,
где воспоминания мерцают сквозь жестокие реалии жизни. Или где мечта
закрывает своей красотой горькую изнанку окружающего.
Именно на этой границе, в столкновении жизни обыденной, зримой, «реальной» и
лучших ее проявлений, придающих жизни смысл, – живет искусство, и театр в
частности.
Выставка как будто делится на три части. Первая – словно увидена в окно
автором. Это образы горького прошлого и настоящего. Они отмечены бытом,
существующим и по сей день на окраинах, в старых, на вид уютных, двориках.
Автор окрашивает этот мир в ностальгические, щемящие, гдето светлые, гдето
грустные тона. И появляется огромный, во все полотно старый трехколесный
велосипед, на котором, образами детства, балансируют маленькиемаленькие
мальчик и девочка. Эти дворы пришли из довоенного, военного и послевоенного
прошлого, они гнездятся и сейчас между современными районами. Нищета, снова
и снова заставляет их жителей жить по старому сценарию. Но как хотят люди в
этих покосившихся домах, с выброшенной железной кроватью на улице, изменить
ее!.. С сарказмом и болью выписывает автор жителей этих трущоб. В работе «Собачья
жизнь» они притулились у своих домов, став вровень с ними: тоскливые, тупые,
нахальные, несчастные. Конечно, они ненавидят свою «собачью жизнь», которую
даже бомж в ватнике понять не в силах. На фоне этого совсем по особенному
читается работа «Тема прошлого урока», где лица персонажей, играющих
спектакль о той жизни, заливает серый, холодный свет. Словно художник
спрашивает, а надо ли снова погружаться и проживать кошмары минувшего, от
которых веет смертью. Зачем снова и снова вызывать из прошлого страшные
призраки? Чтобы они жили в душах людей? С большим удовольствием, похоже,
художник выписывает других персонажей: Тоня с Витей, трогательные смешные
влюбленные, уезжают прочь на велосипеде. Это надежда автора, это его желание.
И совсем не случайно появляется у Шубина образ дворника, сметающего старые
оконные рамы, всякий хлам и, вместе с ним, эти старые дома. Этакая
символическая «метла истории», проходящая по прошлому, ради будущего и
настоящего.
Вторая часть работ – образы, пришедшие из фантазий и истории. Образы модерна,
утонченной, рафинированной культуры рубежа ХIХ–ХХ веков проступают сегодня в
причудливых формах «высокой» культуры, освежающим ароматом матэ и витают
гдето в иных измерениях, спасая от безысходности быта и нищеты. В работе «Запах
матэ» удивительно красивая женщина держит на подносе сосуды с экзотическим
чаем. В этом женском образе соединяются черты творческой личности, пришедшей
из Серебряного века, и музы художника. Он отражает две стороны одной и той
же жизни. С одной стороны эта женщина может жить рядом с ужасающей нищетой,
а с другой соприкасаться и прорастать к высотам духа.Эта грань прозрачна и
хрупка, и удержаться на ней могут только сильные, одержимые люди. Поэтому
героиня Шубина вдыхает не пары водки и спертый дух окраины, а изысканный
запах чая и высокой поэзии. В нем все лучшее, что дает культура, это – ее
чарующий и спасительный аромат. Этот образ художник развивает в картине: «Искушение
св. Антония», отсылающий нас к культуре итальянского средневековья и
Возрождения. Здесь появляется образ творческой женщины – актрисы, музыкантши,
художницы, существа с тонким интеллектом и, при этом, глубоко чувствующей,
завораживающей даже монаха. Никто не подумает, глядя на эту «посвященную»,
что у нее не сакральный символ на ноге, а просто заштопанная дырка на
колготке. Монеты в волосах и «вавилонская башня» на голове могут быть
приняты за восточные монисты и особый ритуальный убор, и даже за символы,
соединяющие европейскую и восточную культуры.
И тогда совсем подругому воспринимается третья часть работ, где появляются
образы творческих людей, сны творческих людей, их герои. Именно они создают
культуру и актуализируют ее, провоцируя появление прекрасных женщин аромата
матэ. Собирательным образом творческой личности здесь становится образ
Шекспира – простывшего и уставшего, но горящего творческим огнем. Он греет
ноги в чане с водой и пускает по воде кораблик, бережно поддерживая его.
Кораблик – символ его творенияпроизведения. Что ждет его?.. Поймут ли его
люди?.. Ведь счастье творца – когда его создание чтото меняет в человеке,
делает его лучше, раскрывает его душу. Тогда кораблик доплывает до цели. И
мы, современники и потомки, не замечаем, что Шекспирто простужен, болен,
что ему нужны внимание и помощь. Да, сон творца – это сон о его героях и
едут они в кибитке его фантазии, но кибитка – и образ жизни самого художника.
Это он едет по вечной страннической дороге. Дороге мечты и дороге жизни.
И приезжает на городскую площадь «Реальный театр», чтобы снова пробудить
человеческую совесть едкой сатирой М. СалтыковаЩедрина, драмой А. Н.
Островского и растопить человеческую душу Шекспиром, Чеховым, Колядой...
А для чего? Для «…боли и счастья с тоской внутривенной», для «…муки
и радости, в общем – того, что остается от нас во вселенной»
(Ю. Казарин).
Юлия Золоткова