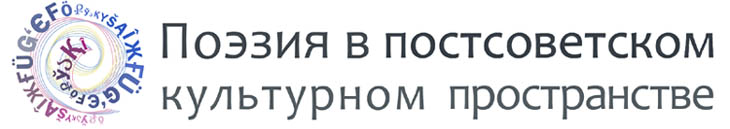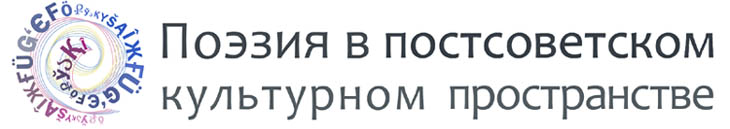| |
Из книги «Марадона»
Перевод Андрея Пустогарова
В оттепель быстро потеет стекло,
как чешую, соскребают лед,
снег, как вскипевшее молоко,
хлопьями тихо плывет.
Я счет потерял среди долгой зимы
отарам небесных огней,
цветные светила на пастбищах тьмы
пасутся там в вышине.
Но бродят ночные эти стада
лишь средь небесных равнин.
Бела их тропа и вера тверда -
нерастворенный еще аспирин.
Военкомат
Перевод Анастасии Афанасьевой
Мама говорит: сходи в военкомат,
поговори с начальником.
Может, возьмут тебя в армию.
Армия сделает из тебя человека.
Сколько можно: бабы, наркотики,
Все эти ваши молодежные барбитураты, в конце-то концов!
Давай, малой – сходи в военкомат.
Но я ей говорю, - ма, ну че за дела, ма,
какой военкомат? Мы давно ни с кем не воюем,
мы – внеблочная страна.
Ты видела нашего министра обороны? Вот у нас
вся оборона такая. У нас оборона хуже,
чем оборона Челси. Короче, ма, я пас, я не пойду.
Но мама говорит: малой, я уже старая, вот я умру,
и кто о тебе, уроде, позаботится?
А армия сделает из тебя человека.
Посмотри, малой: дом без ремонта стоит,
ты, сука, весь клей вынюхал,
обои нечем приклеить. Давай, малой,
сходи в военкомат.
Ну, почему, - говорит она, - ты не хочешь пойти?
Почему не поговоришь с их начальником?
Ну, как почему, - говорю я, - ну, ма, ну как почему?
Как почему?
Да потому что я дебил!
Ты понимаешь – дебил!
А дебилов в армию не берут!
Даже в нашу, украинскую!
Что бы я делал, если бы вдруг стал сапером?
Я бы выкапывал противопехотные мины,
прятал бы их под кровать,
и слушал ночью,
как взрывчатка пускает свои корни,
будто
лук.
Пиноккио
Перевод Игоря Сида
Она сказала:
– Дай сюда руку.
Вот тут, смотри. Те участки, где кожа
неповреждённая, сохраняют всю
положительную информацию.
А всё говно, которое ты выжрал
за жизнь, откладывается в шрамах.
Чем больше говна – тем глубже шрамы.
– И чем глубже шрамы, – сказал я, –
тем больше было говна.
– Точно, – сказала она, – всё в шрамах,
вся тьма мира.
В детстве в тебе
откладывается ненависть.
Ненависть – это как способность ездить на велосипеде:
она появляется, даже если
у тебя нет велосипеда.
Человек честнее всего именно в детстве,
когда, попав в капкан, перегрызает
блестящими брекетами собственную лапу,
чтобы не опоздать
на вечерние мультфильмы.
В соседней комнате её сын
добивал свои игрушки.
– Давай, малыш, – позвала
она, – идём есть.
Сейчас, мама, – ответил
малыш. – Я только
не могу решить, кого из них оставить в живых:
того, кто слева, или того, кто справа.
Никого, – сказала ему мама
жёстко. – Мой руки и идём есть.
Хорошо, – ответил малыш,
и помчался мыть руки,
оставив всех троих
умирать
под палящим солнцем.
Хорошие молодые поэты
Перевод Анастасии Афанасьевой
Жизнь всегда проводит четкое разграничение.
В зависимости от того, на какой стороне
ты окажешься, и складывается твоя
карьера.
Помню, когда мы все были
молодыми поэтами, среди нас
была компания, они были на хорошем
счету у старших, их считали
хорошими молодыми поэтами,
о них говорили – хорошие
молодые поэты, это хорошие
молодые поэты.
Они смотрели на нас и смеялись:
- Что – снова идете пить? Ну, ну.
Сами они, понятное дело, никогда не пили.
Они собирались, читали стихи
и пили при этом кефир. Они говорили
о нас: раз уже эти ленивцы считают,
Что настоящий поэт должен упиваться до смерти,
то мы будем упиваться кефиром!
В их стихах росла трава и
светило красное солнце, и их юные
Женщины прижимались к ним и шептали:
мы сохраним нашу молодость,
нашу поэзию,
мы всегда будем вместе,
с нашей молодостью,
нашей поэзией.
Вот такая тогда была литература.
Жизнь проводила разграничение,
поэты спешили перебежать
на солнечную сторону.
В то время как мы с друзьями били друг
друга по черепу с носака,
они разливали свой кефир.
В то время как мы хотели
продать почку одного из наших,
они входили в ночь,
будто в глубокое море.
Когда я говорил: мне 19,
я сам знаю, что нужно делать,
один из них держал за руку свою девушку
и говорил о поэзии.
Когда я заливался болгарским бренди,
он смеялся: поэзия, - говорил, -
приходит сама собой,
да.
Когда я заливался говняным болгарским бренди,
он только смеялся
и подавал руку помощи.
Ну и что дальше?
утром я блевал, выплевывая в
мировую пустоту остатки бренди.
а он получил расстройство желудка
После всего своего кефира
и наложил полные штаны.
Прямо на глазах
своей девушки,
прямо в присутствии
других
хороших молодых поэтов.
Я всегда говорил: все дело
в грамотно выбранном
творческом кредо.
Перевод Игоря Белова
Август уходит из теплых кварталов,
река обнажает камыш и траву,
и беспризорные дети вокзалов
терпкие звезды яблок рвут.
И в черных ночлежках, с загадочным видом,
чувствуя в этом условный знак,
читают на девичьих лицах обиду
и курят взаправдашний взрослый табак.
В их цепком медленном разговоре,
привычном жестоким детским сердцам,
столько любви и злого горя,
что не снилось и мертвецам.
Может быть, твердое, словно гравий,
время, что убивает нас,
из их исковерканных биографий
когда-нибудь новый язык создаст.
Может, как призраки, эти парни
в тумане, окутавшем архипелаг,
солдатами свежесколоченных армий
когда-то встанут под чей-то флаг
и злость, которой у них навалом,
будут все время нести в руках,
прорвавшись к карпатским глухим перевалам
и окопавшись на сербских хребтах.
И смельчаки, те, кто шагом пешим
идут без улыбок и лишних слов,
на фонарях еще будут вешать
гадалок, мошенников и шутов.
Будет разорвана аккордеоном
дезертирская ветреная душа,
и будут на рынке в каждом районе
хлеб и патроны для калаша.
И будут крепнуть с каждой ночью
времени хрупкие позвонки,
ласточки в небе оттачивать почерк
и рыбы плыть по теченью реки.
Марадона
Перевод Игоря Белова
Тот, кто продавал кокаин Марадоне,
тот, кто губку с уксусом протягивал распятым,
и кто пробивал ганджубас на микрорайоне,
знают, что жизнь – штука с привкусом неслабым.
Жизнь это то, чем ты начнешь расплачиваться
в конце жизни,
это плохие предчувствия, что начинают сбываться,
это то, в пределах чего ты вынужден обозначиться,
и ради чего ты соглашаешься продаваться.
То, что заложено в тебе вместо агрессии,
то, что ты должен оплатить до последнего цента,
жизнь – это бизнес, на который у тебя нет лицензии,
бог – это менеджер из аптеки, который не продаст тебе без рецепта.
Жизнь, это как курс бакса, который все время шатается,
это как счет в банке, на который ты всегда опираешься.
И если ты думаешь, что это тебя не касается,
то я думаю, что ты глубоко ошибаешься.
Потому что каждому, кто укладывался и вписывался,
щедро воздаться за каждый трабл,
за каждый листопад, что на него осыпался,
за тишину и сумрак, в которые он попал.
И повернувшись к каждому, с кем довелось держаться
одних законов под прогнувшимся небом горечи,
я скажу – любому из вас будет чего стрематься,
вспоминая обо мне
и о том, что я вам пророчил.
Кто знает, каким будет продолжение,
часто жизнь ограничена свидетельством о рождении.
Большинство вещей даже не пытаешься повторить.
Чем больше видел, тем меньше об этом хочется говорить.
Зная текст, тяжело досидеть до конца представления.
Часто желание всех подставить является самым последним.
Как говорил Иисус, раскинув руки –
Я вернусь еще, суки.
Украина для украинцев
Перевод Александра Мильштейна
Раньше в гостинице комнаты сдавались почасово,
на рецепции висит табличка: «Комнаты почасово больше
не сдаются», но всё равно ощущается –
бордель борделем.
Под окнами с утра тусуются арабы
и туда-сюда
ходит
проститутка,
которую окликают велосипедисты, –
пройдет еще раз
туда-сюда,
я ее тоже окликну, Мария, скажу, сестра, что за шняга,
кто столкнул нас лицом к лицу?
И вот она
ходит
туда-сюда
под бывшим борделем, словно сирота, которая
помнит в принципе, где они раньше жили,
но боится ошибиться, потому и ходит
туда-сюда
и занимается проституцией.
К чему я веду? Память тела, только она заставляет нас
таскаться по всем этим арабским помойкам.
История такая:
когда мне было пятнадцать,
в городе, где я жил, появился серийный убийца.
Они тогда активно начали появляться –
серийные убийцы и кооператоры,
гробовщики социализма,
их тогда ненавидели,
в смысле – кооператоров.
Наш серийный убийца ездил на велосипеде,
возникал из мартовского тумана и протыкал
своих жертв
трофейным
немецким
штыком.
Перво-наперво он протыкал женщин –
беззащитных, безоружных женщин,
которые гуляли в темных лесах,
брели глухими, заметенными тропками,
блуждали полуночными кладбищами,
сидели у барной стойки – пьяные и раскрашенные,
совсем одни,
без исподнего –
почему-то именно этих безоружных женщин
он протыкал в первую очередь,
а потом уже садился на свой велосипед
и ехал, как раз успевая на первую смену
на молокозавод.
И оттого, что все его боялись
и заряжали на него
охотничьи ружья и
машину пропаганды,
я всегда вставал на его сторону,
я думал так: память тела – это клёво,
но вот вы себе обиваете груши по магазинам
и кинотеатрам,
а он каждый вечер выходит
за заводскую проходную
и садится на свою «Украину» и мчится домой,
и следом за ним из-за угла выскакивают бесы,
на таких же точно «Украинах», и мчатся за ним
в мартовском тумане,
пытаясь выхватить у него из рук трофейный штык,
и никто из вас,
слабаков,
не видит этой
дьявольской погони, сквозь тишь и мглу,
эти чертовы перегонки, никто из вас
не увидит и не почувствует, как они летят на своих велосипедах
к мрачным вратам ночи.
А тот, кто стоит у ворот
и ждет, чем закончится
их гонка,
не выходит из сумрака,
стоит, укрывшись в тени, и думает так:
вот они мчатся прямо сюда,
безумные велосипедисты,
всадники апокалипсиса.
Не так важно, кто из них придет первым,
не так важно в итоге, кто из них придет последним,
не так важно, доедут ли они вообще.
Главное – это страх, который
закладывается под язык
и не дает говорить правду,
точно, страх, — довольно
повторяет он
и идет домой,
проверять мои
домашние
задания. |