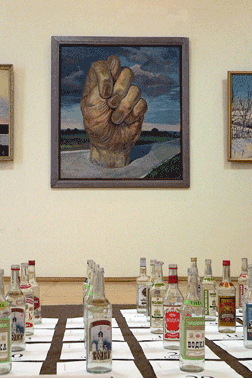
Искусство эпохи духовного выживания
Выставка под названием «Вентеннале екатеринбургских безвыстамкомных художников» (имеется в виду знаменитые Сурикова 31 – На Сакко и Ванцетти – На Станции Вольных Почт – Вернисаж), состоявшаяся в музее на Вайнера 11, уникальна. Она представляет собой римейк первых в нашем городе бесцензурных выставок, которые, без преувеличения можно сказать, обозначили на Среднем Урале рубеж между советской эпохой и перестройкой. Художественный андеграунд Свердловска тогда первый раз вышел навстречу массовому зрителю из мастерских и богемных тусовок. И в культурном контексте того времени его творчество прозвучало мятежно и свежо. Правда сейчас, в новой культурной и социальной ситуации оно звучит не столь однозначно.
В большинстве выставленных произведений художники занимаются анализом своих снов, видений, галлюцинаций, но только не оригинальным искусством. К таким работам относятся картины В. ГАВРИЛОВА, в частности, мутное полотно, посвященное Буянову – одни эзотерические сны и фантазии человека, утратившего способность отличать реальность от фантазии. То же самое можно сказать и о В. ДЬЯЧЕНКО, А. КОЗЛОВЕ и о многих других художниках, чьи картины, возможно, могли поразить живущего в информационном вакууме советского человека, но теперь выглядят безнадежно вторичными, перепевающими мотивы соцарта и западного авангарда: плохой «Дали», плохой «Эрнст», плохой «Миро» и т. д. Среди них много и просто плохо нарисованных, непродуманных работ.
Из большого количества представленных картин можно выделить только несколько, сохранивших за два десятка лет способность волновать зрителя благодаря мастерству исполнения, точным психологическим наблюдениям и философским обобщениям, – способность, свойственную лишь настоящим произведениям искусства. На фоне эпигонов соцарта и сюрреализма они – как глоток свежего воздуха.
В начале выставочного зала сразу притягивает к себе внимание полотно М. ИЛЬИНА «Плотик», на котором плывет спящий мальчик. Этот синий плотик похож на учебник, дневник или толстую тетрадку, но так же и на туристическую пенку. Вокруг темная, спокойная вода. Мальчик лежит ничком, голова свешивается и волосы слегка касаются воды. Нога тоже выходит за границы плота. Кажется, что мальчик переживает во сне темные стороны своей жизни. Может быть, это трудности во дворе или школе. Мальчишке бывает очень трудно плыть на «плотике» своего самосознания через начинающийся «трудный» возраст. Но художник рисует плот синим. Возможно, этот цвет – цвет надежды – символ спасительного плота знаний и родительской любви, на котором только и может держаться мальчик. И на этом «плоте» мужественной латунью начинает отливать его юное, взрослеющее тело. Чуть сжимается, но еще открыта для встречного рукопожатия его ладонь, и указательный палец словно только что оторвался от строчек книжки, читаемой на ночь.
Сверху этой работы устроители выставки поместили «Портрет Лиды», написанный Е. ГЛАДЫШЕВОЙ в 1989 г. Похоже, это намек на «маму» мальчика с картины Ильина: худая и нервная, с перекошенным лицом, может быть, пьющая и голодная женщина придерживает худыми, прозрачными руками свой детородный живот, обтянутый синими джинсами. Словно только в нем заключено единственное, что связывает ее с жизнью.
Далее нас надолго останавливает диптих Б. ХОХОНОВА «Красные камыши». Эта работа приоткрывает мужской мир, с его стремлением к опасности. Так же в картине прочитывается предчувствие тяжелых испытаний и готовность их принять и преодолеть. На ней изображено озеро с темноголубой водой и в воде видны синие проталины; а вот весло, погруженное в воду. Из воды встает монументальная стена узких, длинных стеблей камыша тревожного алого цвета, а сквозь них просвечивает восходящее (или заходящее?) солнце. Во второй части эта застывшая тревожность нарушается вторгнувшимся человеком. Правда, камыши продолжают гореть, как огонь в сердце у сидящего в лодке мужчины, который присутствует на картине только рукой с сигаретой. В целом диптих вызывает ассоциации одновременно и с героической музыкой Вагнера, и с непокорной философией Фейербаха, и с мудрой поэзией Фроста, и со спокойномужественными героями Хэмингуэя или Ремарка...
Виктор МАХОТИН в своих произведениях так же трогает здоровым, гармоничным мироощущением, выраженным посредством насыщенного колорита. Герой его картины «Парень с рабочей окраины» (1982 г.) похож на итальянца. Где Махотин нашел такого в Екатеринбурге?.. Разве что только раскопал среди редких на Урале итальянских гастербайтеров?.. В нем есть гордость и достоинство, здоровая чувственность и такт. Не часто можно встретить у «неформальных» художников 80х подобное внимание к «простым людям труда».
Странное, болезненное желание защитить дорогое воспоминание выражено в работе И. ШУРОВА «Я помню чудное мгновенье», написанной в 1989 г. Уже не молодой человек, весь в красных лохмотьях советской идеологии, бережет в своей душе милое воспоминание о юноше и девушке, танцующих под дождем. Во взгляде у мужчины читается вопрос о том, как в недрах идеологизированного мира смогло вызреть и сохраниться очарование детства и юности. Наверное, просто потому, что беззаботная юность мало думает об идеологии и политике, и только зрелость тащит ее на своих плечах…
Хороша на этой выставке «Наташа» Л. ЧУПРЯКОВОЙ. Она со здоровым страхом и вместе с тем, с болью, взирает на начинающийся вокруг общественный беспредел: работа создана в 1986 г.
Приковывает к себе взгляд зрителя картина А. МАКАРОВА «Стальная романтика». Изображенное на ней – черный силуэт воинов, выходящих на берег моря то ли после битвы, то ли перед ней – напоминает фантастический мир Толкиена, но благодаря выбранному художником жесткому колориту кажется, что это происходит не на фоне эльфийских лесов, а среди индустриальных пейзажей современных мегаполисов.
Радостное восприятие мира выражено Б.У.КАШКИНЫМ (Е. Малахиным), продолжающего традиции русского народного лубка, например, в большом полотне «Крепче заваривай чай». Но уже в следующей работе «Теплое лето» хипповская радость отчеркивается ощущением надлома, ощущением, отстраненным от реальности, погруженным только в музыку, обозначенным лишь фантазиями. В глазах юношей и девушек – вопрос о неправильности устройства мира. И они не знают, что и чем на это ответить. Отсюда и появляется боль и возникает предчувствие грядущих трагедий и разочарований.
В жанре социальной сатиры выполнена графика Н. КОЗИНА. Особенно выделяется своей смысловой точностью лист под названием «Здравствуйте, товарищи»: советский партийнономенклатурный работник заискивающе протягивает в знак приветствия руку – но кому? Мы видим только повисший в воздухе оголенный, накаченный бицепс, словно его обладатель – очевидно, местный «пахан», новая реальная власть в России – еще размышляет: стоит ли здороваться с этим уже бессильным «совком», советским государством, или проще будет послать его подальше? Так 80е встречались с 90ми, так старая советская номенклатура искала общий язык – и нашла его в конце концов – с новыми хозяевами России.
В заключение хотелось бы упомянуть о замечательных котах, живущих в работе И. ИГНАТЬЕВА «Осенние песни о котах» (1984 г.). Собственно, это 5 работ, составляющих цельное произведение. На первой из них кот ожидающе смотрит на стакан с молоком. Потом он (скорее всего, так молока и не дождавшись) вместе со своими друзьямикотами уходит, и кошачий путь подобен веткам деревьев, расходящихся и увлекающих все дальше. Потом коты отчаянно мяукают на луну, теснясь друг к другу и слегка закрываясь от нее, потом спасаются на дереве от злой собаки… А вскоре вновь шествуют по снежному безмолвию. И им светят в ночи осенние листья и они побратски мурлыкают друг с другом… Вот так и выживали в те годы российские интеллигенты – ничего не понимая в том, что творится в обществе, они упрямо держались вместе и только благодаря этому выживали…
И это был, наверное, единственный достойный выход из тогдашней общественной ситуации.
На выставке (точнее, только на ее открытии) еще была представлена инсталляция. Она изображала кусочек быта художников тех лет: трапеза из картошки в мундире, соли, головок лука, черного хлеба и чекушки водки. Эта инсталляция символична: насколько убоги представленные на ней яства, настолько же далеким от пиршества творческого духа выглядит сейчас по своему содержанию представленное на выставке неофициальное искусство позднесоветской эпохи (за исключением разве что некоторых из упомянутых и неупомянутых нами работ). Оно, по большому счету, сохраняет значение только как ценный исторический документ, как искусство эпохи духовного выживания. Если это протестное искусство, то очевидно, что его протестный потенциал давно уже исчерпан. Коль скоро бунт мыслится только как поиск правильного бога и правильных символов, то он прекращается, когда мир изменяется к лучшему не в реальности, а лишь в мозгу богоискателя. И новому поколению, чей голос представлен на выставке только проектом «Из хаоса букв в порядок мыслей» П. Ложкина, уже не понятно, что такого бунтарского в картинах Дьяченко, Козлова или Гаврилова. Беспредметность фантазий и религиозные искания в их время выглядели как выражение независимого, смелого сознания. Но оказалось, что это – только «Здравствуйте, товарищи!» – только поиск новых иллюзий.
Бунт 80х давно закончился, – и мы знаем, чем, – но, однако же, продолжает плыть мальчик на плоту по картине Ильина, тревожно шуметь красные камыши Хохонова, задавать «русские» вопросы хиппи старика Б. У. Кашкина, и все еще бредут по заснеженному полю коты Игнатьева в поисках теплого, свежего молока…
Юлия ЗОЛОТКОВА, Андрей КОРЯКОВЦЕВ