ГЛАВА IV. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД СЖАТИЯ
4.4.
Демографически-структурная динамика в
1880-1890-е годы
4.4.1. Традиционалистская реакция
Убийство Александра II произвело огромное впечатление
на русское общество и вызвало резкую перемену общественных настроений. Террористы рассматривались как орудия западного влияния; в южных губерниях произошли еврейские погромы. В народе
распространился слух, что царь был убит дворянами, недовольными отменой
крепостного права, и Лорис-Меликов в циркулярном письме предупреждал
губернаторов о возможности крестьянских выступлений против помещиков[1]. Новый министр внутренних дел славянофил граф Н. П. Игнатьев
говорил, что «почву для тайной организации нигилистов составляли поляки и
евреи»[2]. «Надо прежде всего препятствовать подпадению народа под влияние
интеллигенции, которая утратила связь с народной традицией», – говорил К. П.
Победоносцев[3].
Таким образом,
убийство Александра II вызвало традиционалистскую реакцию, направленную против
западного влияния, против «западников» и «инородцев». Либеральные министры убитого
царя были вынуждены уйти в отставку; с поста председателя Госсовета был удален
самый знаменитый «западник» предшествующего царствования – великий князь
Константин Николаевич. К власти пришли деятели славянофильского направления:
К.П. Победоносцев, Н. П. Игнатьев; глашатаями новой политики стали редактор
«Московских ведомостей» М. Н. Катков и редактор «Гражданина» князь В. П.
Мещерский. Принятая новым правительством доктрина «народного самодержавия»
провозглашала отвержение западных идейных влияний и возврат к традиционным
русским ценностям. Эта доктрина в известной степени повторяла лозунг
«самодержавие, православие, народность» времен Николая I и подразумевала
религиозное освещение власти государя, опору на дворянство, как связующее звено
между царем и народом, возвращение к патриархальным государственным отношениям
времен Московской Руси и идеологию попечительства над крестьянством, призванную обеспечить народную любовь[4].
Проводилась политика «русификации» и
стеснения «инородцев»; среди высших сановников уменьшилось количество
лютеран-немцев (в 1853 году лютеране составляли 16% членов Государственного
Совета, а в 1903 году – только 2%)[5]. Чтобы ослабить влияние петербургской буржуазии на чиновников,
для чинов высших классов было запрещено участие в правлении акционерных
обществ.
Авторы доктрины
«народного самодержавия», в согласии с основной идеей славянофилов, считали,
что Россия – не Европа и должна идти своим путем, отличным от
капиталистического пути Запада. Они надеялись, что
защищенная от проникновения буржуазных отношений община будет по-прежнему
выступать в качестве основы российской социальной традиции. «Россия имеет свою
отдельную историю и специальный строй... – утверждал в 1897 г. министр
внутренних дел Плеве – ... имеется полное основание надеяться, что Россия будет
избавлена от гнета капитала и борьбы сословий»[6].
4.4.2. Политика по отношению к крестьянству
В соответствии с неомальтузианской
теорией, в период Сжатия обедневшее население оказывается не в состоянии
платить налоги, и государство вынуждено уменьшать свои предъявляемые к народу
требования.
Как отмечалось выше, под влиянием отчетов
о сенаторских ревизиях М. Т. Лорис-Меликов пришел к выводу о необходимости
снижения выкупных платежей. В подготовленном Министерством финансов записке «О
финансовом положении России» в качестве главной причины недоимок указывался рост населения. «Когда население
возросло, – говорилось в записке, – отведенная земля оказалась недостаточной
для прокормления крестьян и для доставки им средств в уплате налогов и выкупных
платежей. Когда же к этому присоединились
неурожаи... тогда положение крестьян в целых уездах и даже губерниях стало
бедственным, исправное поступление налогов и платежей прекратилось, и правительство
само оказалось вынужденным позаботиться о прокормлении нуждающегося населения»[7].
После убийства Александра II (1 марта 1881
года) намеченная реформа стала тем более необходимой[8]. По закону, принятому 28 декабря 1881 года, выкупные платежи были
уменьшены на 1 рубль с каждого душевого надела. В Центральном районе средняя
плата с десятины уменьшилась с 1 руб. 79 коп до 1 руб. 27 коп. (на 30%). В
Черноземном районе плата с десятины уменьшилась с 2 руб. 29 коп. до 1 руб. 80
коп. или, в переводе на хлеб, с 4,2 до 3,3 пуда с десятины и примерно столько
же с человека (на Черноземье душевой надел составлял около 1 десятины).
Одновременно более чем наполовину были сложены недоимки, и все крестьяне, еще
остававшиеся «временнообязанными», были переведены на выкуп с понижением
платежа на 20%[9].
После снижения выкупных платежей на
очередь встал вопрос об обещанной Александром II отмене подушной подати; она
была отменена в 1886 году. На Черноземье подушная подать в переводе на хлеб
составляла 2,5-3 пуда на душу, и вместе с уменьшением выкупных платежей общее сокращение налогов бывших помещичьих крестьян
составило 42-47%. Стремясь компенсировать
потери бюджета, правительство перевело государственных крестьян на выкуп.
Выкупная операция была рассчитана на 44 года, в течение которых крестьяне
должны были платить за ссуду в среднем 82 коп. с десятины вместо прежних 56
коп. оброчной подати. Однако и при этом повышении платежи государственных крестьян
в расчете на десятину были в 1,6 раза меньше, чем платежи бывших помещичьих
крестьян[10].
Под давлением Сжатия правительство
стремилось переложить часть тягот с плеч переобремененного крестьянства на
другие сословия. Для компенсации потерь от отмены
подушной подати был увеличен поземельный налог (который собирался и с дворян),
увеличен имущественный налог с горожан, введены налоги на прибыль акционерных
компаний и банковских вкладчиков[11]. Однако, по сравнению с другими странами, участие зажиточных
слоев населения в налоговых тяготах было незначительным. Поземельный налог
давал в России лишь 1,5% доходов бюджета, в то время как во Франции – 9,1%.
Налог на городскую недвижимость в России давал 0,77% доходов, а налог на денежный
капитал – 1,4%. В других странах эти подати входили в состав подоходного
налога, который давал в Пруссии 16,4%, а в Англии – 18% доходов[12]. Высшие классы российского общества по-прежнему пользовались
привилегиями, унаследованными от эпохи крепостного права и несовместимыми с
понятием о цивилизованном обществе. Нежелание высших классов нести налоговые
тяготы было одним из факторов, обуславливавших финансовую слабость России.
Чтобы до какой-то
степени ослабить земельную нужду, правительство решило организовать покупку
дворянских земель крестьянами через специально созданный Крестьянский банк. Условия этой покупки были тяжелее условий выкупа земель по
реформе 1861 года: крестьяне вносили 25% наличными, а за оставшуюся сумму
уплачивали банку 6,5% в течение 55 лет. В принципе, купив землю на таких условиях,
крестьяне еще долго платили за нее деньги, немногим уступавшие арендной плате,
и эту землю можно лишь условно считать крестьянской. Как бы то ни было, за
1877-1900 годы крестьяне приобрели десятую часть частных земель Черноземья. К
1900 году частные земли крестьян увеличились с 3 до 7% всех удобных земель, и
вместе с надельными землями крестьяне владели 67% удобных земель. Купцы и
мещане, которые тоже скупали земли разорявшихся дворян, увеличили свою долю с
4% до 9%, а доля дворянского землевладения уменьшилась с 32 до 24%[13].
В соответствии с
неомальтузианской теорией для периода Сжатия характерны реформы, направленные
на облегчение положения народа. Мы упоминали выше о значительном снижении
налогов в 1880-х годах. Другим проявлением этой тенденции была политика
попечительства по отношению к крестьянству.
Как отмечал позднее министр внутренних дел В. К. Плеве, политика попечительства
началась во времена графа П. Д. Киселева, и нашла свое яркое проявление в
реформе 1861 года[14] – но элементы этой политики можно обнаружить еще во времена Петра
I и Павла I: в общем смысле, она была частью теории «регулярного государства».
В 1880-х годах главным проводником политики попечительства был первый советник
царя К. П. Победоносцев; идеи попечительства разделялись многими политиками и
общественными деятелями того времени, в том числе и либералами[15].
Основным принципом политики попечительства
была поддержка крестьянской общины как гарантии от появления нищего, голодного
и склонного к бунту пролетариата. «Одна
общинная связь может охранить крестьянское население от обезземеливания», – писал К. П. Победоносцев[16]; один из идеологов реформы 1861 года К. Д. Кавелин называл общину
«страховым учреждением от безземельности и бездомности»[17]. Эта мысль многократно повторялась в правительственных
документах. «При сравнительно низком уровне крестьянского хозяйства, –
говорится в проекте Редакционной комиссии о пересмотре законоположений о
крестьянах (1903 г.), – опека
общины, оберегая слабых и подгоняя нерадивых, должна быть признана благотворительной»[18].
В ряду законов и указов, реализовавших
основной принцип политики попечительства, следует назвать указ 1883 года,
запрещавший продажу крестьянских изб и построек, закон 1886 года об ограничении
семейных разделов, указ 1887 года, запрещавший сдачу надельной земли в аренду
без согласия общины. В целях укрепления общины были приняты законы 1893 года о
запрещении продажи досрочно выкупленных наделов за пределы общины, об
ограничении их залога, о контроле общины за арендой наделов и об упорядочении
переделов земли[19]. В свете политики попечительства следует рассматривать также и
введение института земских начальников, но эта реформа оказалась неудачной[20].
Важным принципом политики попечительства
была опора на общину как основу политической стабильности. Как отмечалось
ранее, в период кризиса конца 1870-х – начала 1880-х годов крестьянство
продемонстрировало свою полную лояльность правительству. Изучение динамики
крестьянских волнений (см. рис. 4.4 и 4.13.) свидетельствует, что число
волнений было меньше, чем в 1840-х и 1850-х годах, и не показывало уверенной
динамики к росту. Так же как и в первой половине XIX века, вступление нового
императора на престол порождало всплеск волнений, связанных с надеждами на
наделение крестьян землей (а в предыдущий период – с надеждами на
освобождение). Очевидно, после реформы 1861 года крестьяне продолжали надеяться
на царя, как на своего защитника и предстоятеля.
С. Ю. Витте в 1893 году называл
крестьянскую общину «главной опорой порядка»; в подтверждение своих мыслей он
цитировал Бисмарка, который говорил, что «вся сила России – в общинном землевладении»[21]. В упомянутом выше проекте Редакционной комиссии говорится, что
«крестьяне более чем представители какой-либо другой части населения всегда
стояли и стоят на стороне созидающих и положительных основ общественности и
государственности и... являются оплотом исторической
преемственности в народной жизни против всяких разлагающих сил...»[22].
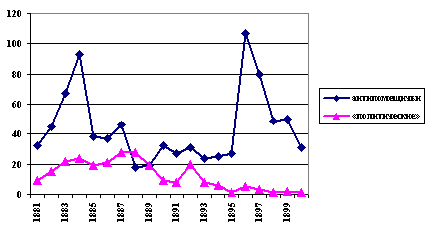
Рис.
4.13. Динамика крестьянских волнений в 1881-1900 гг.[23]
Еще одним направлением политики
попечительства было создание церковно-приходских школ, предназначенных как для
обучения грамоте, так и для нравственного воспитания народа в православном и
верноподданническом духе. Победоносцев неоднократно заявлял, что он считал дело
распространения школ самым важным, «так как оно делалось для народа». Народный
учитель в его представлении должен был быть главным проводником в народные
массы исконно русских национальных традиций и идеалов православной любви к
ближнему. В 1880 году в России насчитывалось только 273 церковно-приходские
школы с 13 тысячами учащихся, а в 1902 году их число достигло 31855; школы
посещало 1783 тыс. учащихся[24]. В деле начальной грамотности был достигнут огромный прогресс,
но, как отмечал Витте, развитие образования должно было усилить стремление
народа к справедливости и способствовать росту влияния социалистов.
Поскольку разложение
общины, рост малоземелья и изменение крестьянского менталитета были следствиями
Сжатия, то политика попечительства, в конечном счете, имела целью приостановить
Сжатие (или, по крайней мере, нейтрализовать его последствия). Естественно,
такая политика была обречена на неудачу.
4.4.3. Динамика элиты. Положение
дворянства
Политический кризис
рубежа 70-х-80-х годов вынудил монархию к уступкам не только народу, но и
дворянству. Главной чертой традиционалистской
политики стала опора на дворянство. Формально это выглядело как примирение
этатистской монархии с элитой после разрыва, произошедшего в 1861 году. В
октябре 1882 года министром внутренних дел был назначен представитель
консервативных дворянских кругов Д. А. Толстой. Протестуя против проводимой Н.
Х. Бунге политики уступок крестьянству, новый министр заявил Александру III,
что не признает «крестьянской России». «Ваши предки создали Россию, но они
нашими руками ее создали», – говорил Толстой, имея в виду руки тысяч дворян[25]. Главная идея консервативной партии заключалась в том, что
сохранение самодержавия невозможно без сохранения дворянства, что дворянство (а
не крестьянство) является главной опорой самодержавия[26].
По мысли консервативных идеологов,
дворянство должно было играть роль «100 тысяч полицейских», осуществляющих
надзор и опеку над другими сословиями, прежде всего над крестьянством.
Александр III принял эту программу консерваторов и во время коронации обратился
к собранным со всей России волостным старшинам с наказом слушаться своих
предводителей дворянства[27].
Произошедшие
перемены отражали некоторое изменение расстановки сил в структуре «государство-элита-народ»,
повышение роли дворянства в ущерб государству и народу. Эти перемены отразились и на распределении ресурсов в рамках
структуры. В финансовой области государство было вынуждено вернуть дворянству
некоторые его привилегии, прежде всего льготный кредит. Во исполнение этой
программы в 1885 году был создан Дворянский банк, предоставлявший дворянам
льготные кредиты под 5% годовых на срок до 48 лет. В 1889 году процент был
снижен до 4,5%; для сравнения ставка кредитования Крестьянского банка была
больше на 2,25%, а акционерных банков – на 2,5- 3,5%. В 1886-1888 годах
помещики получили 173 млн. руб. кредитов, что в 7 раз превышало выданные в те
же годы кредиты Крестьянского банка.[28]
Широкомасштабное субсидирование
дворянского класса было вызвано не только политическими причинами, но и
попыткой противостоять разразившемуся в этот период аграрному кризису. Резкое
увеличение хлебного экспорта из России, США и некоторых других стран в 70-е годы
вызвало падение цен на мировых рынках. Это привело к падению цен также и в
России; на Черноземье средняя цена ржи уменьшилась с 72 коп. коп в 1881-1885
гг. до 45 коп. в 1886-1890 гг. Арендаторы помещичьих земель стали разрывать
арендные договоры, арендная плата в Орловской губернии уменьшилась в 1886-1889
гг. на 20%. Для многих помещиков наступили трудные времена. В 1888 году
пензенские дворяне отказались от уплаты государственных и частных долгов, прося
отсрочки. В 1889 году недоимка Дворянского банка по процентам составила 5,2% к
сумме долга, то есть превысила годовую сумму процентов[29].
В результате продаж общая площадь
дворянских земель сократилась с 77,8 млн. дес. в 1861 г. до 73,1 млн. дес. в
1877 г., 57,7 млн. дес. в 1892 г. и 53,2 млн. дес. в 1905 г. Доля дворянских
земель в частном землевладении уменьшилась в 1877-1905 гг. с 80% до 62% в 1905
г.; на Черноземье помещики потеряли за эти годы 29% своих земель[30].
В то время как дворянское землевладение
сокращалось, численность дворянства постоянно росла. В 41 губернии Европейской
России (без 9 западных губерний с польским дворянством) в 1858 г. насчитывалось
234 тыс. потомственных дворян, в 1870 г. – 305 тыс., в 1897 г. – 478 тыс. В 6
губерниях Черноземья (без Пензенской губ.) в 1858 г. было 45,1 тыс. дворян, в
1870 г. – 45,8 тыс., в 1897 г. – 60,9 тыс[31]. Если в 1870 г. на одного дворянина на Черноземье приходилось 176
дес. земли, то в 1897 г. – 104 дес., на 40% меньше[32]. Если принять численность дворянской семьи в 4-5 человек, то средний
размер поместья на Черноземье составлял 400-500 десятин. Эта цифра близка к
средней по России.
|
Группы
владений по размеру |
1877 |
1895 |
1905 |
||||||
|
Число владений (тыс.) |
Общая площадь владений (тыс.
дес.) |
Средний размер (дес.) |
Число владений (тыс.) |
Общая площадь владений (тыс.
дес.) |
Средний размер владения (дес.) |
Число владений (тыс.) |
Общая площадь владений (тыс.
дес.) |
Средний размер (дес.) |
|
|
До 100 дес. % |
56,4 50,2 |
1916 2,8 |
34 |
60,4 57,8 |
1851 3,2 |
28 |
59,7 58,9 |
1601 3,4 |
30 |
|
100-500 дес. % |
33,4 29,6 |
8316 12,1 |
249 |
29,2 25,4 |
7208 13,4 |
247 |
25,6 25,3 |
6397 13,3 |
250 |
|
500-1000 дес. % |
10,6 9,4 |
7520 10,9 |
707 |
9,6 8,4 |
6650 12,4 |
694 |
8,0 7,9 |
5634 11,8 |
703 |
|
1000-5000 дес. % |
10,4 9,2 |
21121 30,7 |
2031 |
8,3 7,3 |
16435 30,5 |
1972 |
6,9 6,8 |
13600 28,3 |
1976 |
|
более 5000 дес % |
1,8 1,6 |
29890 43,5 |
16437 |
1,2 1,1 |
21799 40,5 |
17594 |
1,1 1,1 |
20699 43,2 |
18301 |
|
Всего по 44 губерниям % |
112,6 100 |
68774 100 |
613 |
114,8 100 |
53944 100 |
470 |
101,3 100 |
47902 100 |
473 |
Табл. 4.19. Cтруктура и динамика дворянского землевладения по 44 губерниям России[33].
Более половины всех поместий 44 губерний Европейской
России составляли мелкие и мельчайшие поместья размером до 100 десятин. За 1877-1905 гг. численность мелкого дворянства заметно
возросла, и его удельный вес в общей численность дворян увеличился с 50 до 59%. Имея поместья в среднем около 30 десятин, эти дворяне по уровню
доходов немногим отличались от зажиточных крестьян. Как отмечала Особая
комиссия 1892 года, такие владения «едва ли могут служить достаточным обеспечением
развитых в этом сословии потребностей»[34]. Мелкопоместное дворянство было особенно распространено в
западных и левобережных украинских губерниях, где проживали потомки польской
шляхты и казацкой старшины. Много мелких дворян было также и на Черноземье, в
районах, где в XVII веке проходили «засечные черты». Особое совещание по делам
дворянского сословия отмечало бедственное положение мелкого дворянства
черноземных губерний, которое не получает никакой помощи ни от земств, ни от
дворянских обществ[35]. Таким образом, не удивительно, что значительная часть
«нигилистов» происходила из мелкопоместных
дворян.
На другом полюсе сосредотачивалось
крупнейшее дворянство – так называемые «латифундисты» или «лендлорды». 102
семьи, принадлежавшие по большей части к старинным родам, в 1905 году владели
30% всей дворянской земли. Разница в положении этих семей и остального
дворянства была столь велика, что на страницах дворянской прессы слово
«лендлорд» приобрело бранное значение; «лендлордов» изображали как непримиримых
противников среднепоместного дворянства
и вообще дворянского дела[36].
Что касается средних поместий (от 100 до
1000 дес.), то их численность в 1877-1905 годах уменьшилась почти на четверть,
с 44 тыс. до 34 тыс. «Вымирающее» среднее дворянство было источником постоянных
жалоб, с которыми обращались к правительству предводители дворянства. В 1896
году 27 губернских предводителей дворянства, прибывшие на коронацию Николая II,
подали царю «Записку», в которой вновь жаловались на всеобщее оскудение
поместного дворянства, писали «о переходе из затруднительного положения в
нестерпимое» и о появлении «на близком уже расстоянии разорения среднего и
крупного землевладения»[37]. В ответ правительство снизило процентную ставку для должников
Дворянского банка до 4% в 1894 году и до 3,5% в 1897 году. Было учреждено
Особое совещание по делам дворянства, но его работа не привела к существенным результатам[38].
Таким образом, в
соответствии с теорией, Сжатие и увеличение численности дворянства привели к
затяжному кризису элиты. В соответствии с теорией, элита требовала поддержки у
государства, но это поддержка не могла существенно изменить ее положения.
Иногда высказывается мнение, что главной
причиной разорения дворянства был его экономический консерватизм – нежелание
тратить деньги на улучшение хозяйства. Как показывают материалы исследований,
помещичьи хозяйства не обладали существенными преимуществами перед крестьянскими
хозяйствами в части внедрения усовершенствованных орудий труда[39]. Это объясняется тем, что условиях аграрного перенаселения
главным фактором, влияющим на прибыль помещичьих хозяйств, было не внедрение
передовой агротехники, а дешевизна рабочей силы. Поденная плата батраков в
Южном Степном районе была в полтора раза больше, чем на Черноземье, и это было
главной причиной того, что и себестоимость пуда ржи была в полтора раза больше[40].
Более того, прибыль
на десятину земли при «экономической» обработке полей батраками была существенно
меньше, чем при сдаче их в аренду, и этот разрыв увеличивался с ростом
перенаселения. По этой причине в начале XX века у крупных помещиков лишь 43%
пашни входило в состав экономии, остальная пашня сдавались в аренду. Но и в
экономиях 44% пашни обрабатывалось в счет отработок инвентарем крестьян[41].
«Аграрное перенаселение вызывало… разложение крупного хозяйства и окончательное
превращение прежнего дворянина-хозяйна в эксплуататора крестьянской нужды», –
писал Б. Бруцкус[42].
Аграрное перенаселение делало помещичьи
хозяйства Черноземья весьма прибыльными и без использования техники; отношение
арендной платы к цене земли в начале XX века составляло в этом регионе 10,3%, то
есть землевладелец получал с капитала (с учетом трехполья) 6,7% прибыли – значительно
больше, чем в среднем по Европейской России. Для сравнения отметим, что средний
дивиденд в промышленности составлял в 1901-1905 годах 5,9%, то есть владеть
землей на Черноземье было выгоднее, чем вкладывать деньги в промышленные
предприятия[43].
Таким образом,
русских помещиков трудно упрекать в отсутствии деловой хватки – экстенсивный
характер помещичьих экономий определялся условиями Сжатия.
4.4.4. Динамика государства: финансовый кризис и новый этатизм
Как отмечалось выше,
неомальтузианская теория утверждает, что для периода Сжатия характерны
финансовый кризис государства и тенденции к этатизму.
В
российской и в западной историографии широко распространено мнение о том, что,
в 80-90-х годах, несмотря на сильное дворянское влияние, этатистская
группировка в правительстве все же преобладала и что российская монархия, в
целом, сохраняла свое положение «вне и над
классами»[44].
Помимо старой
этатистской традиции, столь ярко проявившей себя в освобождении крестьян, на
политику государства влиял и диффузионный фактор. 80-е годы XIX века были
временем смены тенденции в мировой экономической политике, когда после
финансового кризиса середины 70-х либеральная экономическая доктрина стала
уступать место тенденциям государственного регулирования и государственного
капитализма. В Германии развитие теории государственного регулирования нашло
свое выражение в концепции «социальной монархии» Лоренца Штейна и работах
авторитетной экономической школы «катедер-социалистов». Это сочетание новейших
социальных теорий с прусскими этатистскими традициями проявилось в характере
реформ, проводимых канцлером Бисмарком. В 1880-х годах Бисмарк провозгласил
начало «социальной реформы», которая подразумевала, в частности, принятие
нового рабочего законодательства, включавшего (впервые в Европе) законы о
социальном страховании. В этой связи германский канцлер много говорил о «праве
на труд» и о «государственном социализме», под которым он подразумевал этатистское
регулирование социальных и имущественных отношений. Другим проявлением
этатистской политики Бисмарка было расширение государственного
предпринимательства и создание мощного государственного сектора экономики. Государственный
сектор экономики должен был удовлетворять самые насущные потребности государства
и вместе с тем приносить доходы, за счет чего снижалась доля прямых налогов на
население. Наиболее ярко государственно-капиталистические тенденции проявились
во введении водочной и табачной монополий и в национализации железных дорог; в
1891 году 93% германских железных дорог
принадлежали государству[45].
Германия была
наиболее могущественным государством Европы, а Бисмарк – наиболее авторитетным
политическим лидером тех времен. Зародившись в Германии, волна этатистских
реформ распространилась по всей Европе, не миновав и России. В первую очередь
был поднят вопрос о национализации железных дорог. В
России построенные частными компаниями железные дороги приносили убытки, и
казне приходилось платить гарантированные прибыли по акциям и облигациям из
своих средств, записывая эти дотации в задолженность компаний. Поскольку
задолженность постоянно росла, то правительство сочло за лучшее по примеру
Германии выкупить основные железнодорожные магистрали в казну. Однако выкуп
железных дорог затруднялся нехваткой средств; в министерство Бунге (1881-1886)
в казну было выкуплено только 1,3 тыс. верст дорог[46].
Россия подражала Германии и в деле
введения рабочего законодательства. «В России не менее чем в Германии, – писал
Н. Х. Бунге в официальном докладе Александру III, – нужно бороться с разрушительным
стремлением революционной партии, но чтобы отнять у последней почву, необходимо
обеспечить благоденствие народа и действовать в том же направлении, как
действует князь Бисмарк»[47]. В 1882-1886 годах были приняты законы, ограничивавшие труд
подростков и женщин, а также ночные работы; была упорядочена выплата заработной
платы, появилась фабричная инспекция, наблюдавшая за условиями труда. Однако
подготовка закона о страховании рабочих (во многом следовавшего германскому
прототипу) осталась незавершенной. Социальные реформы правительства включавшие,
помимо рабочего законодательства, меры по облегчению податных тягот крестьян и
создание Крестьянского банка, вызвали противодействие дворянской партии. Катков
и Мещерский поставили Бунге в вину приверженность к социалистическим идеям, и,
вместе с другими обвинениями, это вынудило министра финансов подать в отставку[48].
Ярким проявлением
Сжатия был финансовый кризис государства,
обостренный мерами по снижению налогов с крестьян. Как
показывает график на рис. 4.8, государственные доходы в расчете на душу
населения в 1876-1885 гг. снизились. Между тем, 1861-1880 гг. сумма зарубежных
кредитов, направленных главным образом на железнодорожное строительство,
составила 2 млрд. руб. В 1881 году платежи по займам достигли 240 млн. руб.,
что составляло 34% доходов бюджета[49]. Новое правительство было вынуждено резко сократить размеры
зарубежных заимствований и жить по средствам. В 1881-1893 гг. были взяты
кредиты только на 450 млн. руб.; масштабы железнодорожного и промышленного
строительства резко сократились. В 1882-1885 гг. правительству в ущерб
обороноспособности пришлось пойти на уменьшение военных расходов[50].
В 1886 году Александр III обратился за
советом по поводу улучшения финансовой ситуации к известному математику
профессору И. А. Вышнеградскому, который предложил этатистский план резкого увеличения доходов бюджета и перераспределения
ресурсов в пользу государства. В частности, по примеру Бисмарка,
Вышнеградский рекомендовал ускоренный выкуп частных железных дорог, повышение
косвенных налогов, введение винной монополии и повышение таможенных тарифов. 1
января 1887 г. Вышнеградский был назначен министром финансов и приступил к
реализации своего плана. При проведении выкупной операции акционеры получили за
свои акции суммы, соответствовавшие номиналу, но правительство не смогло
полностью взыскать задолженность с железнодорожных компаний и списало 700 млн.
руб. долгов – это были чистые убытки государства. В министерство Вышнеградского
казной было выкуплено 5,5 тыс. верст железных дорог. С 1889 году железнодорожные
тарифы стали устанавливаться государством, и тарифная политика превратилась в
мощный инструмент экономического регулирования[51].
Другим крупным проектом в области
национализации было введение государственной винной монополии. Это была ярко выраженная этатистская мера, речь шла о
том, чтобы отнять у виноторговцев – крупного слоя российской буржуазии – их
огромные доходы (180-200
млн. руб., в год) и обратить эти доходы на прибыль казны. Из-за необходимости подготовительных мероприятий Вышнеградскому
не удалось быстро ввести винную монополию, но министр увеличил акцизы на спирт,
табак, сахар, ввел новые акцизы на керосин и спички. Были увеличены также и
прямые налоги: поземельный налог, налог на городскую недвижимость и др.; усиленно собирались недоимки[52].
Увеличение таможенных пошлин имело целью
как увеличение казенных доходов, так и защиту национальной промышленности от
иностранных (прежде всего германских) конкурентов. Общая сумма таможенных
пошлин возросла с 14,3 % от стоимости импортируемых товаров в 1877 г. до 32,7 %
в 1892 г. Однако повышение тарифов вызвало таможенную войну с Германией,
которая в ответ подняла тарифы на русский хлеб[53].
Таможенная реформа привела к росту цен на
импортные предметы роскоши и вызвала недовольство дворянства. Вдобавок,
Вышнеградский пытался ввести высокий налог на заграничные паспорта и затруднить
вывоз валюты той частью русской аристократии, которая почти постоянно проживала
за границей. Эта попытка закончилась неудачей, но она показала, что новый министр склонен проводить этатистскую политику
вопреки интересам элиты. Повышение пошлин и налогов
позволило Вышнеградскому за три года увеличить доходы бюджета примерно на
четверть. В пересчете на хлеб
душевая налоговая нагрузка возросла примерно с 7,5 до 11,5 пуда (см. рис. 4.8); в
конечном счете, смысл политики правительства состоял в перераспределении
ресурсов в пользу государства.
Вышнеградский сумел до некоторой степени
облегчить бремя платежей по «железнодорожным» долгам. Воспользовавшись падением
процентной ставки на Западе, правительство выпустило новые займы и на
полученные деньги погасило старые обязательства. В результате платежи по займам
снизились; если в 1886 году они составляли 38% доходной части бюджета, то в
1892 г. – 28%[54].
Одним из пунктов программы Вышнеградского
было привлечение в Россию иностранных капиталов. Во второй половине 80-х годов
на Западе стал ощущаться избыток капиталов и ставка, по которой предоставлялись
кредиты, составляла в 2,5-3,5%, в то время как в Петербурге – 5-5,5%[55]. Это означало, что предпринимательство в России давало в
полтора-два раза более высокие прибыли, чем на Западе, и существовали
благоприятные условия для привлечения капиталов. Однако имелось существенное
препятствие, заключавшееся в неустойчивости курса русского кредитного рубля по
отношению к золотой валюте: предприниматель, вложивший валюту, мог понести
убытки в случае понижения курса. Таким образом, главным условием привлечения
капиталов была стабилизация курса и введение золотого рубля. Для этого нужно
было увеличить приток в Россию золота – то есть увеличить экспорт. В принципе,
меры к увеличению экспорта принимались и ранее, и позиция правительства в этом
вопросе совпадала с настоятельными пожеланиями дворянства. В 1884-1885 годах тогдашний
министр финансов Н. Х. Бунге совершил инспекционную поездку, осмотрел все порты
Европейской России и наметил программу мер по расширению хлебной торговли. С
1885 года стали выдаваться ссуды под зерно. В 1889 году Вышнеградский произвел
радикальное снижение железнодорожных тарифов и установил экспортные премии[56]. Эти меры привели к тому, что вывоз в расчете на душу населения
увеличился в полтора раза, с 3,9 пуда в 1884/85-1886/87 годах до 5,8 пуда в
1887/88-1889/90 годах. В результате притока валюты
курс рубля поднялся с 65 до 80 копеек и правительство, печатая бумажные рубли,
скупало на них золото для создания необходимого запаса и скорейшего введения
золотого стандарта[57]. При этом оно
сознательно шло на временное снижение потребления хлеба внутри страны.
Количество хлеба, остававшееся в стране
после вывоза, составляло в 1875/76-1888/89 хозяйственных годах 14-19 пудов на
душу населения. Вывоз хлеба большого урожая мог продолжаться не один год, после
вывоза в текущем году в стране могли остаться значительные запасы, тогда на
следующий год независимо от урожая вывоз увеличивался и остаток хлеба в стране
уменьшался. Механизм вывоза работал таким образом, что усредненный трехлетний
остаток на потребление составлял практически постоянную величину в 17-18 пудов
(см. рис. 4.14). В 1889 году был неурожай, цены поднялись, но благодаря
снижению транспортных расходов вывоз оставался выгодным, и это привело к тому,
что остаток на потребление упал до небывало низкого уровня – немногим больше 11
пудов. Голод не начался лишь потому, что предыдущие годы были урожайными, и в
хозяйствах оставались кое-какие запасы. В следующем году урожай был
посредственным, ниже среднего, а экспорт оставался высоким; остаток снова
оказался ниже минимального уровня, и страна снова жила за счет запасов. «Внешнеторговую
политику Вышнеградского не зря называли “голодным экспортом”… – отмечает В. Л.
Степанов. – В ряде регионов
вообще не оставалось сколько-нибудь значительных запасов хлеба, что в случае
неурожая было чревато массовым голодом»[58]. Об истощении запасов говорилось и в сообщениях из губерний:
«Хотя в 1890 году был более-менее недурной урожай, – доносил воронежский уездный
исправник, но однако же сохранение продуктов оказалось недостаточным для того,
чтобы за покрытием всех предшествующих нужд, образовать необходимые запасы...
Общий неурожай в текущем году... при полном отсутствии кормовых и
продовольственных средств поставил большинство крестьянских хозяйств в
безвыходное положение»[59].
Когда весной 1891 года с мест стали
поступать сообщения о грядущем недороде, директор департамента неокладных
сборов А. С. Ермолов вручил Вышнеградскому записку, в которой писал о «страшном
признаке голода»[60]. Однако министр финансов проигнорировал это предупреждение и
вывоз зерна продолжался в течение всех летних месяцев. «Сами не будем есть, а
будем вывозить!» – заявлял Вышнеградский[61].
В результате неурожая чистый душевой сбор
составил около 14 пудов, запасы были истощены экспортом предыдущих лет, и в
итоге разразился голод, унесший, по подсчетам Р. Роббинса, около 400 тысяч
жизней[62]. И.А. Вышнеградский прибег к решительным этатистским мерам, он
ввел запрет на вывоз хлеба и выступил с предложением о введении подоходного
налога для обложения лиц, располагавших «сравнительно большим достатком».
Однако это предложение было отвергнуто правительством, а запрещение на вывоз
хлеба продержалось лишь 10 месяцев и было отменено под давлением дворянства и
коммерческих кругов. С министром финансов случился удар, и вскоре его вынудили
уйти в отставку[63].
Неурожай был особенно бедственным в
регионах Черноземья и Поволжья. В Воронежской, Тамбовской, Пензенской,
Симбирской губерниях крестьяне собрали на своих наделах меньше, чем посеяли.
Как это обычно бывает, голод сопровождался эпидемиями. В Воронежской губернии
от холеры погибло 11 тысяч человек, от цинги – 10 тысяч, было много погибших от
дизентерии и брюшного тифа. В целом превышение смертности над обычным уровнем
составило 1,7 процента или 44 тысячи человек. Число жертв было не таким
большим, каким оно бы могло быть, благодаря энергичным мерам, принятым
правительством для помощи голодающим. В апреле 1892 года хлебные ссуды получили
1 млн. из 2,6 млн. населения губернии[64].
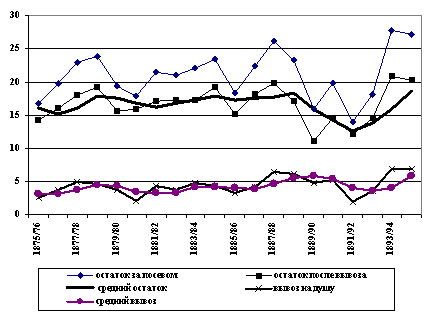
Рис. 4.14. Динамика
потребления и вывоза в 1875-1894 годах по 50 губерниям Европейской России[65].
Широкие масштабы предоставления помощи
отчасти нейтрализовали неблагоприятные политические последствия голода. Источники
не отмечают подъема крестьянских волнений; крестьяне не проявляли политической
активности, они были по-прежнему покорны властям: процесс психологической
эмансипации еще не успел получить значительного развития. Однако это был
последний случай, когда голод не вызвал крестьянских выступлений. Уже через
десять лет положение резко изменилось[66].
С точки зрения
демографически-структурной теории кризис 1892 года имел много общего с кризисами
1568-1571 и 1723-1725 годов – в том смысле, что он носил не число
демографический, а преимущественно структурный характер, был вызван увеличением
давления государства на крестьянство. Правда, в 1890-1892 годах это давление
было более косвенным, оно выражалось, с одной стороны, в увеличении косвенных
(а не прямых) налогов, а с другой стороны, в стимулировании хлебного экспорта.
Хотя государство не само вывозило зерно, тем не менее, помогая экспортерам
лишать народ хлеба, оно получало непосредственную выгоду, скупая притекавшее от
экспорта золото на бумажные рубли.
4.4.6. Этатистская политика С. Ю. Витте
Несмотря на кризис
1892 года, государство (в соответствии с прогнозом неомальтузианской теории)
продолжало проводить этатистскую политику.
После отставки И. А. Вышнеградского
министром финансов был назначен С. Ю. Витте. Витте продолжительное время был
близким помощником Вышнеградского и на посту министра финансов в основном следовал планам своего предшественника – но делал это более осторожно и осмотрительно. Расширение
экспорта хлеба позволило удвоить золотой запас, стабилизировать курс рубля и в
1897 году ввести золотой номинал. Так как в России норма прибыли была выше, чем
в Европе, то стабилизация денежного обращения вызвала резкий прилив иностранных
капиталов. Если в 1890 г. иностранные акционерные капиталы в России составляли
214 млн. руб., то в 1900 г. – 911 млн. руб., их доля в общем акционерном
капитале возросла с пятой части до половины. Прилив иностранного капитала
(вместе с ростом внутренних капиталовложений) привел к бурному росту русской
промышленности; общая стоимость продукции за 1890-1900 гг. увеличилась вдвое.
Эти успехи, впрочем, были весьма относительными, на фоне других государств
Россия продолжала оставаться отсталой аграрной страной. В последние годы XIX
века доход на душу населения составлял в России 46 долларов, в то время как во
Франции – 178, в Англии – 205, в США – 259 долларов[67].
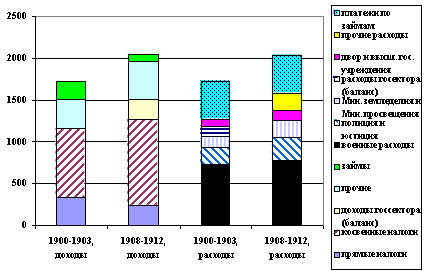
Рис. 4.15. Доходы и расходы бюджета начала XX века в
пересчете на хлеб (млн. пудов[68])
В 1897 году была введена предложенная в
свое время Вышнеградским казенная винная монополия, которая в 1900-1903 годах
дала около 300 млн. руб. чистого дохода – примерно четверть доходов бюджета.
Несмотря на голод 1892 года, правительство почти не снизило налоговой нагрузки
(резко увеличенной Вышнеградским), душевое налогообложение в пересчете на хлеб
сохранялось на уровне 11 пудов (см. рис. 4.8 и 4.16). При этом упор делался на
косвенные налоги, на обложение акцизом предметов широкого потребления
(таксировании). Г. Робинсон иронизировал, что «когда крестьянин
мог позволить себе роскошный вечер, он заполнил бы лампу таксированным
керосином (если он имел лампу), зажег бы его таксированной спичкой (или
лучиной), завернул бы немного таксированного табака в таксированную сигаретную
бумагу (или в обрывок газеты), и погрузился бы в облако дыма. Если бы после
этого он захотел пить, то утолил бы жажду стаканом таксированного чая, в
прикуску с кусочком таксированного сахара. Или возможно он пошел бы купить
бутылку водки… и в результате этого акта потребления, государство получило бы
хороший доход, используя одновременно свои способности мытаря и винного
монополиста»[69].
Возросшие доходы от косвенных налогов,
таможенных пошлин и винной монополии позволили правительству более активно вести политику по созданию государственного сектора
экономики. В 90-х годах было выкуплено 15 тыс. верст частных железных дорог
и была развернута невиданная по масштабам программа строительства
государственных дорог – в том числе строительство Транссибирской магистрали. За
1896-1900 годы было построено 15 тыс. верст железных дорог, и их общая протяженность
достигла 56 тыс. верст; около 70%
всех железных дорог принадлежало государству[70].
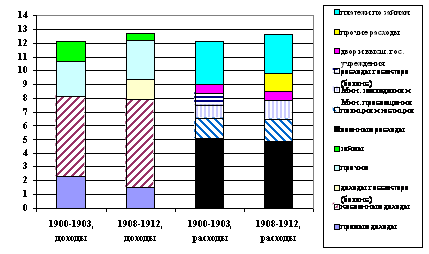
Рис. 4.16. Доходы и расходы бюджета начала XX века в
пересчете на хлеб на душу населения ( пуд.)[71]
Помимо железных дорог, государственный
сектор включал казенные земли и леса, оружейные и горные заводы, почту и
телеграф, а также Госбанк. Все эти предприятия в 1900-1903 гг. давали в среднем
570 млн. валовой прибыли в год, которая шла не только на эксплуатационные
расходы, но и на строительство новых предприятий, в частности, около 200 млн.
руб. использовалось на строительство
новых железных дорог[72].
Таким образом,
государственный сектор экономики во все больших масштабах использовался для
финансирования индустриализации. Более того, правительство брало на себя
регулирование основных параметров экономической жизни страны. Т. Шанин отмечает, что С. Ю. Витте следовал при этом «германскому
пути» экономического развития, который отличался от «классического» английского
капитализма[73]. «В России, – писал Витте Николаю II в 1895 г. – по условиям
жизни нашей страны, потребовалось государственное вмешательство в самые
разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличало ее от Англии,
например, где все предоставлено частному почину»[74].
Принципиальные цели этатистской политики
были самоочевидны: речь шла об упрочении монархии и увеличении мощи Российской
империи. В условиях до крайности обострившейся гонки вооружений индустриализация
была необходимым компонентом военной политики. Индустриализация и финансовые
реформы позволили увеличить военные ассигнования с 210 млн. руб. в среднем в
80-х годах до 490 млн. руб. в 1900-1903 гг. Армия была перевооружена новыми
системами оружия, скорострельными винтовками и пушками; был создан броненосный
флот. Эти успехи, были, конечно, относительными, по уровню вооружений русская
армия по-прежнему отставала от германской
или французской, но они все же позволяли поддерживать определенное военное равновесие.
Таким образом, хотя крестьянство голодало,
а дворянство было недовольно этатистской политикой, правительство не сокращало
своих расходов и даже увеличивало давление налогового пресса. Однако рост
недоимок заставил правительство признать крайнее напряжение платежных сил населения,
и в начале русско-японской войны оно не сочло возможным хотя бы частично
финансировать военные расходы за счет увеличения прямых налогов. С другой
стороны, опасаясь недовольства элиты, власти не решалось ввести подоходный налог
на состоятельные слои населения[75]. В итоге, возможности увеличения доходов были исчерпаны, и в
случае появления непредвиденных расходов финансовая система оказывалась под
угрозой кризиса. Демографически-структурная
теория говорит, что в период Сжатия реальные доходы государства сокращаются и
оно должно испытывать финансовый кризис. В российском случае правительство
искало выход из финансового кризиса на пути этатистской политики частичной
национализации и государственного регулирования.
Сконцентрированная на нуждах государства этатистская политика Витте вскоре привела к конфликту
между правительством и дворянством.
В феврале 1896 года было созвано Совещание губернских предводителей дворянства
– первое столь представительное собрание с 1861 года. Участники совещания
обвинили правительство в том, что оно заботится исключительно о нуждах
промышленности, железных дорог и банков, в то время как благосостояние
деревенской России падает. Высокие таможенные тарифы, введенные в 1891 году,
защищали промышленность от иностранной конкуренции, но заставляли потребителей,
в том числе и дворян, покупать промышленные товары по высоким ценам. В то время
как консерваторы предъявляли экономические требования, либералы выступали с
лозунгом ограничения самодержавия. На совещании раздавались голоса, требовавшие
для дворянства права на представительство в законодательных учреждениях.
Дворянская оппозиция укрепилась в земствах (где дворяне играли главную роль) и
земское движение стало основой либерального движения в России[76].
Отвечая на раздававшуюся из дворянского
лагеря критику, Витте четко сформулировал основные принципы этатизма. В
записке, предназначенной для Николая II, Витте изображал самодержавие как самодовлеющую власть, располагающую полной свободой
действовать исключительно в своих целях.
Все сословия были для этой власти одинаково равны, и ни одно из них не могло
претендовать на роль «союзника». «Не имея противников, русская верховная власть
не нуждалась и в союзниках… – так оценивал Витте роль сословий. – Все они… несли
государственное тягло, которое возлагалось на них верховной властью для общей всего народа
пользы»[77].
В своих неофициальных высказываниях Витте
шел гораздо дальше. «Чтобы ни говорили, а в душу человека вложена идея
справедливости, которая не мирится с неравенством, – писал Витте Мещерскому в
1901 году, – с бедствиями одних в пользу других… В сущности, по моему
убеждению, это корень всех исторических эволюций. С развитием образования
народных масс… сказанное чувство справедливости, вложенное в душу человека,
будет все более и более расти в своих проявлениях». Витте связывал это
пробуждение ищущих справедливости народных масс с социалистическим движением.
«Везде социализм делает громадные успехи… – писал Витте. – Спасение от такого
положения вещей заключается только в самодержавии, сознающем свое бытие в
охране интересов массы, сознающем, что оно зиждется на интересах народного
блага, или же в режиме социализма… ». Князь Бисмарк, продолжал Витте, «все сие отлично понимал, и он был первейший
социалист, проведший ряд мер, которые временно дали
другое течение дела в Германии»[78].
Военный министр А. Н. Куропаткин
высказывал мысли, созвучные идеям Витте. «Надо, усмиряя происходящие
беспорядки, – писал Куропаткин в 1901 году, – усмирять капиталистов,
заводчиков, фабрикантов, которые о нуждах рабочих, как и ранее, думают мало,
поглощенные заботами о наживе…»[79]
Однако за словами «государственников» о
социальной справедливости не следовало соответствующих дел. Налоговые реформы
Витте оставили в неприкосновенности податные привилегии дворянства. В 1897 г.
дворяне в среднем платили с десятины своих земель 20 коп. налогов; нищее крестьянство
платило с десятины 63 коп. налогов и 72 коп. выкупных платежей, всего 1 руб. 35
коп. – в семь раз больше, чем дворяне[80]. Тем не менее, дворянство было недовольно политикой этатистов. Не
решаясь прямо выступать против самодержавия, консервативная дворянская пресса в
1897 году начала компанию против бюрократии, обвиняя ее в проведении
«антидворянской политики».
Конфликт между
этатистским государством и землевладельческой элитой был важной стороной
российской общественной жизни и некоторые социологи, например, Т. Скочпол,
считают его главной причиной русской революции[81].
4.4.7. Положение чиновничества и офицерского корпуса
В контексте демографически-структурной
теории большое внимание уделяется внутренней динамике государства и его
отношениям с элитой. Опорой монархии и главным носителем этатистской идеи была
профессиональная бюрократия. Хотя формально многие
чиновники были (преимущественно, личными) дворянами, потомственное дворянство
считало личных дворян и классных чиновников самостоятельной сословной группой,
«не имеющей ничего общего с действительным, то есть потомственным дворянством»[82]. Эта сословная группа была почти столь же многочисленна, как потомственное
дворянство; в пределах Европейской России ее численность вместе с семьями
составляла в 1858 г. 277 тыс. человек, в 1870 г. – 317 тыс., в 1897 г. – 487
тыс. Чиновники низших классов (XIV–IX) составляли около половины всего чиновничества;
они жили, в общем, небогато, получая вознаграждение лишь в 2-3 раза
превосходившее зарплату квалифицированного рабочего. Тем не менее, по сравнению
с серединой столетия материальное положение низших и средних чиновников
улучшилось. В 1900 году жалование чиновника IX класса составляло 750-900 рублей
в год, то есть было примерно втрое больше, чем в 1850-х годах. Для сравнения,
чистый доход среднего крестьянского хозяйства в Калужской губернии в 1896 году
равнялся 238 рублям[83].
Чиновники четырех высших рангов были (в
соответствии с рангом) потомственными дворянами, но они составляли лишь 1,4% от
всего классного чиновничества, и даже среди них далеко не все имели поместья,
то есть были настоящими дворянами-помещиками (а не выслужившимися чиновниками).
Доля помещиков в высшей бюрократии постепенно падала, в 1858 г. родовыми
поместьями владели 34% чиновников I-IV классов, а в 1902 г. – только 16%.
Государственный Совет в 1858 году почти полностью состоял из помещиков, причем
69% процентов его членов были не просто помещиками, а латифундистами,
владельцами более чем тысячи крестьянских душ или 5 тысяч десятин. К 1902 году доля помещиков в Совете уменьшилась до 57%,
а доля латифундистов – до 22%. Влияние дворянства
постепенно уменьшалось, но на самом высшем уровне, уровне правительства, оно
все же оставалось преобладающим: 90% членов правительств 1901-1917 годов по
происхождению были дворянами[84].
Помимо государственных чиновников,
существовали и земские чиновники, работавшие в системе местного самоуправления.
В 1880 году из земских бюджетов оплачивалось около 140 тыс. чиновников,
примерно столько же, сколько из государственной казны. Земское чиновничество
зависело уже не от правительства, а от земских собраний, в которых преобладала
либеральная дворянская оппозиция. Естественно, в этой среде были распространены
оппозиционные настроения. Существенно, что среди земских чиновников было много
специалистов, агрономов, врачей, учителей, то есть интеллигенции. Другой слой
интеллигенции составляли служащие негосударственных предприятий и «лица свободных
профессий». Интеллигенция получала в университетах западное образование и
воспитывалась в пропитанной оппозиционными настроениями студенческой среде;
естественно, что она сохраняла эти настроения и в дальнейшем. Перепись 1897
года зарегистрировала 105 тыс. лиц с высшим образованием, из них 68% составляли
дворяне. В России насчитывалось 17 тыс. врачей, 10 тыс. учителей средних школ,
3 тыс. адвокатов. Лиц со средним образованием насчитывалось около 1 млн., из
них 30% – дворяне и чиновники[85]. Таким образом, русская интеллигенция была наполовину дворянской,
но, как отмечалось выше, она происходила в основном из обедневшего дворянства,
вынужденного зарабатывать на хлеб службой или «свободными профессиями».
Западное образование делало интеллигенцию оплотом либеральных идей, и
недовольство своим положением находило выход в радикальном, «левом»
либерализме.
В отличие от чиновничества, офицерский
корпус армии всегда считалась цитаделью поместного дворянства. В 1895 году потомственные
дворяне составляли половину (50,8%) офицерского корпуса; в пехоте, где служба
была менее престижной, их было 40%; 27% пехотных офицеров составляли личные
дворяне. Чрезвычайно важно, однако, что среди офицеров-дворян было очень мало
настоящих помещиков, даже среди генерал-лейтенантов подавляющее большинство
(81%) не имели никакой земельной собственности[86]. Таким образом,
позиции дворянства в армии и высших сферах чиновничества постепенно слабели,
что способствовало большей независимости государства от элиты.
4.4.8. Положение крестьянства после голода
1892 года
Таким образом,
опираясь на чиновничество и армию, монархия могла проводить этатистскую политику
индустриализации, которую называли «антидворянской». Но как соотносилась эта
политика с нуждами крестьянства?
Мы видели, что в самом начале ее проведения резкий рост вывоза зерна привел к
голоду 1892 года. Хотя кризис не вызвал
немедленного восстания, он резко ускорил тот необратимый процесс, итогом
которого была крестьянская война 1905 года. В условиях голода многие крестьяне
были вынуждены продавать свой скот – в том числе рабочих лошадей. С 1888 по
1893 год доля безлошадных дворов увеличилась в Тамбовской губернии с 22 до 31%,
в Воронежской губернии – с 26 до 41%[87]. Разорившиеся безлошадные крестьяне не могли вернуть полученные
во время голода продовольственные ссуды. Между тем, сумма этих ссуд на начало
1892 года составляла 128 млн. руб. и новая задолженность по ссудам была вдвое
больше прежних недоимок по выкупным платежам. Правительство понимало, что
крестьяне не в состоянии вернуть ссуды, и в 1894 году списало половину этой
задолженности[88]. Однако бремя оставшихся долгов и текущих выплат по налогам и
выкупным платежам было непосильным; недоимка продолжала увеличиваться. Как
видно из графиков на рис. 4.17, до голода 1891 года недоимка во многих
губерниях не только не росла, но и уменьшалась. Это был результат политики И.
А. Вышнеградского, ужесточившего порядок сбора налогов. Голод 1891 года привел
к скачкообразному росту крестьянской задолженности: голодавшие крестьяне, естественно,
не могли платить налоги, а правительство не могло проявлять обычную жестокость
при их сборе. Затем, в середине 1890-х годов, наступило время хороших урожаев,
и методы сбора стали более строгими: в 1894 году за недоимки было арестовано
около 10 тыс. сельских старост – почти вдвое больше, чем в 1891 году[89]. Тем не менее, недоимка продолжала быстро расти, к концу XIX века
она увеличилась в Орловской и Тульской губернии примерно вдвое и в 2,5 раза
превысила размеры среднего оклада.
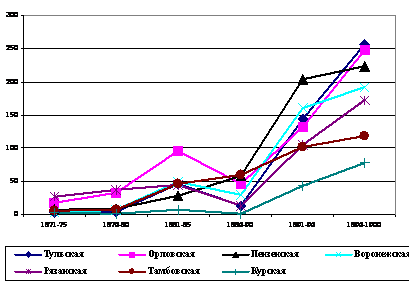
Рис. 4.17. Недоимки по казенным платежам в губерниях
Черноземья (в процентах к среднему окладу за указанный период)[90].
Рост недоимок, очевидно, свидетельствовал
о том, что крестьянские хозяйства Черноземья не могут восстановиться после
кризиса и что положение быстро ухудшается. Ситуация была относительно менее
кризисной в Курской губернии и наиболее тяжелой в Тульской и Орловской
губерниях. Тяжелый кризис наблюдался также в соседнем Поволжье, в Самарской
губернии недоимка достигла 367%. В других регионах страны положение было
намного более благоприятным; в Центральном регионе губернии, кроме Московской,
практически не имели долгов[91].
Большинство
исследователей полагают, что рост недоимок является свидетельством кризисного
состояния крестьянского хозяйства.
Однако в 1990-х годах была предпринята попытка ревизии традиционной точки
зрения. Американский исследователь С. Хок подсчитал, что в целом по России к моменту
отмены выкупных платежей недоимка составляли лишь 5% к той сумме, которую
должны были заплатить крестьяне с 1861 года. «Документы свидетельствуют, что
крестьяне были в состоянии выполнять свои операции и действительно их
выполняли, – пишет С. Хок. – Документы эти не содержат информации, позволяющей
оценить уровень жизни крестьян»[92]. Такой усредненный подход стирает и порайонные, и повременные
различия. Мы уже говорили, что многие регионы, действительно, не имели долгов.
Более того, в 1890 году положение с выплатами было относительно благополучным и
на Черноземье; в Тульской губернии, например, накопленная недоимка составляла
только 13% от годового оклада. Однако к 1900 году недоимка возросла до 256%
процентов, и это означает, что за 1896-1900 годы крестьяне не выплатили
половину полагавшейся с них суммы. Не 5%, а 50%! И (в отличие от С. Хока)
правительство оценило значение этой информации: в 1898 году в Комитете
министров по инициативе государственного контролера Т. Филиппова и с санкции
Николая II был поставлен вопрос о «чрезмерном напряжении сил сельского населения
особенно в центральных губерниях»[93].
Положение осложнялось в связи с вновь
начавшимся ростом арендной платы. А. М. Анфимов, пересчитав денежную арендную
плату в долю урожая, пришел к выводу, что «цифры кажутся почти
фантастическими». «Действительно, как можно поверить, что на рубеже веков
херсонский «десятинщик» отдавал владельцу земли половину урожая, а курский и
орловский мужик – даже две трети (больше, чем при испольщине). Но цифры
неумолимы: действительно, отдавал. Что он при этом думал – другое дело. Эти его
думы руководили им, когда он, вооружившись дубьем, в 1905 году шел громить усадьбу своего арендодателя, а в 1917 г. вообще прогнал его с земли»[94].
В целом экономическая ситуация на Черноземье,
как и раньше, определялась ростом населения и нехваткой пашен. Посевные площади
уже не увеличивались, и шло соревнование между ростом населения и урожайности.
Как видно из рис. 4.18, увеличение урожайности в основном компенсировало рост
населения, и 5-летний тренд не показывал явной тенденции к падению. Однако
тренд колебался: колебания тренда, которые С. Уикфорт отмечал в масштабе всей
России, имели место и в масштабе Черноземного региона – причем они были более
сильными. В 1899-1902 годах тренд поднялся выше отметки в 30 пудов, затем
понизился до 22-23 пудов в 1905-1906 гг. и вновь поднялся в 1910-1911 гг. Эти
колебания тренда отмечали гораздо более интенсивные колебания урожаев, наряду с
годами очень высоких урожаев, когда чистый душевой сбор превышал 35 пудов,
имели место и катастрофические неурожаи: 1891-1892, 1897, 1901, 1905-1906 гг.
При этом нужно учитывать, что Черноземье было экспортирующим регионом, и хлеб,
производившийся на полях помещиков и зажиточных крестьян, вывозился, в
значительной части, за границу. Поэтому падение душевого сбора в годы неурожаев
ниже 19 пудов означало, что на долю основной массы крестьян приходилось
значительно меньше минимальной нормы потребления – то есть крестьяне голодали.
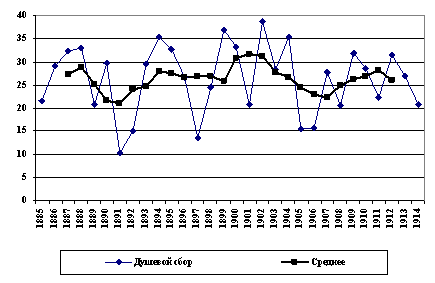
Рис. 4.18. Чистые
душевые сборы и 5-летнее среднее в
Черноземном регионе[95].
В целом по России положение было,
естественно, более сложным. Центральный район жил привозным хлебом, и динамика
урожаев здесь не отражает реальную картину обеспеченности района продовольствием.
На Юге продолжалось освоение целинных земель; новым обширным регионом колонизации
стал Северный Кавказ. После строительства Новороссийского порта три кавказские
губернии стали давать существенную часть экспорта, поэтому их необходимо
учитывать в общем хлебном балансе России. Данные о производстве хлеба на
Кавказе имеются с 1893 года, и график на рис. 4.19 отражает картину
потребления, производства и вывоза хлеба в 1893-1914 годах. С 1900 года имеются
также данные о потреблении (это чистый остаток после вывоза с учетом «видимых»
запасов на элеваторах, в складах, в торговой сети и у крупных производителей).
Как видно из рис. 4.20, разница между потреблением и чистым остатком обычно не
превышала 10%, то есть «видимые» запасы не играли существенной роли.
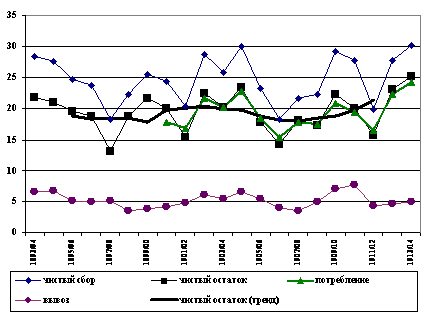
Рис. 4.19. Динамика сборов, потребления и
вывоза хлеба на душу населения по 53 губерниям Европейской России[96].
Так же как и на Черноземье, 5-летний тренд
чистого остатка для Европейской России не показывает очевидной тенденции к
увеличению или уменьшению потребления. Кривая движется вдоль средней линии в
19,3 пуда, плавно поднимаясь до 20 пудов в 1902-1903 гг., опускаясь до 18 пудов
в 1907-1908 годах и затем снова поднимаясь. Однако если рассматривать более
длительный период времени, то надо заметить, что среднее потребление по 53 губерниям в 1893-1912 гг. (19,3 пуда)
было выше, чем среднее потребление по 50 губерниям в 1870-1888 гг. (17,7 пуда).
Эти данные, однако, не следует оценивать слишком оптимистически, поскольку, как
отмечалось, рост потребления зерна на корм скоту в этот период привел к
повышению минимальной нормы потребления хлеба примерно с 18 до 19,2 пуда. Минимальная норма в 19,2
пуда соответствует реальному среднему потреблению зерна в 1893-1912 гг. (19,3
пуда). Правда, в продовольственные ресурсы населения входило еще некоторое количество
картофеля (в 1890-х гг. в пересчете на хлеб – 1,3 пуда на душу), однако эта
добавка в основном компенсировалась расходами на винокурение и закупками армии
(см. табл. 4.8).
Таким образом, хотя в отдельные пятилетия
отмечалось увеличение потребления, в среднем потребление хлеба и картофеля в
России примерно соответствовало минимальной норме. «Сельское население России постоянно
балансировало на грани недоедания, и достаточно было небольшого ухудшения,
недорода, чтобы эта грань была перейдена», – отмечает Т. В. Привалова[97]. Кроме того, сильное различие в уровне потребления между бедными
центральными и богатыми окраинными губерниями; между зажиточными бывшими
государственными крестьянами и бедняками, бывшими крепостными, приводило к
тому, что при среднем потреблении, соответствующем минимальной норме, миллионы
бедняков испытывали хронический голод.
В принципе, даже в годы неурожаев чистый
сбор не падал ниже 18 пудов хлеба на душу, и это еще не означало голода. Но
губительным было то обстоятельство, что в годы неурожаев продолжался вывоз
зерна. В неурожайный 1897/98 хозяйственный год чистый душевой сбор составил
18,2 пуда, а вывоз на душу населения – 5,1 пуда, то есть 28% к чистому сбору, в
результате остаток после вывоза составил лишь 13,1 пуда – много меньше голодной
нормы. По данным П. Н Першина в этот год голодало 27 млн. крестьян. В 1901/02
году душевой чистый сбор составлял 20,3 пуда, вывоз – 4,8, а чистый остаток –
15,5 пуда; число голодавших было примерно таким же[98].
Отказ от ограничения
экспорта даже в голодные годы был составной частью этатистской политики С. Ю.
Витте, стремившегося во что бы то ни стало поддерживать курс рубля. Эта
политика была чревата опасными последствиями: голод 1902 года привел к первым
массовым волнениям крестьян.
4.4.9. Уровень жизни по данным бюджетных обследований
Демографически-структурная
теория требует рассмотрения динамики потребления с учетом имущественной
дифференциации в крестьянской среде.
Средние цифры потребления хлебов по России или отдельным регионам не отражают
специфики положения разных слоев крестьянства. Прежде всего, необходимо
отметить, что к началу XX века сохранялось деление на две большие группы крестьян:
бывших помещичьих крепостных и бывших государственных крестьян. Как и прежде,
эти крестьяне имели разное земельное обеспечение и разный уровень жизни.
Например, в Курской губернии в 1905 г. бывшие крепостные имели 4,8 дес. на
двор, а бывшие государственные крестьяне – 9,3 дес.[99]
|
|
Помещичьи крестьяне |
Государственные крестьяне |
||
|
1877 |
1905 |
1877 |
1905 |
|
|
Число
дворов (тыс.) |
3813 |
5734 |
3781 |
5303 |
|
Надел
на 1 двор |
8,9 |
6,7 |
15,1 |
12,5 |
Табл. 4.20. Численность и средние наделы бывших
государственных и помещичьих крестьян Европейской России[100].
Как показывают данные табл. 4.20 в среднем
по Европейской России земельные наделы бывших государственных крестьян были
почти вдвое больше, чем наделы бывших помещичьих крестьян.
Некоторую дополнительную информацию дают
бюджетные обследования, проводившиеся земствами в различных губерниях. Число таких
обследований за 1880-1900 гг. невелико, и в большинстве случаев охват
обследования ограничивается десятком-другим крестьянских дворов. Со статистической
точки зрения достаточно репрезентативными можно считать лишь обследования,
проведенные в Воронежской губернии в 1887-1896 гг. (всего 230 бюджетов), в
Калужской губернии в 1896-1897 гг. (2417 бюджетов) и в Полтавской губернии в
1902-1903 гг. (100 бюджетов). Нужно учесть также, что некоторые исследователи
(в том числе Г. Робинсон) полагают, что бюджетные обследования несколько приукрашивают
реальную картину за счет преувеличения доли более состоятельных хозяйств[101].
Данные воронежского обследования относятся
в основном ко времени до голода 1892 года, после которого положение в деревне
резко ухудшилось. Результаты обследования анализировались различными авторами в
двух группировках, когда хозяйства делились на группы либо по количеству рабочего
скота, либо по размерам надела. Первая группировка позволяет выделить слой
безлошадных «крестьян-рабочих», который резко выделяется среди других крестьян
тем, что основную часть своего скромного дохода эти крестьяне получают от
работы по найму. Интересно, что крестьяне, имеющие одну лошадь, имеют меньший
душевой доход, чем крестьяне-рабочие, обе эти категории бедняцкого населения
представлены малыми, по-видимому, в основном, молодыми семьями, и вместе охватывают
45% дворов. Потребление хлеба, указанное в этой и в следующих таблицах, – это
потребление в пищу без учета кормов. Уровень потребления хлеба в бедняцких
семьях лишь немного превышает минимальную норму в 15 пудов; в других группах
потребление значительно выше. Хозяйства с 2-3 лошадьми образуют 40-процентый
слой середняков, душевой доход в этих хозяйствах в полтора раза больше, чем у
бедняков, середняки потребляют на 40% больше хлеба и в 2,5 раза больше мяса.
Необходимо отметить, что на уплату налогов и повинностей шла сравнительно
небольшая доля чистого дохода крестьян – от 8 до 12% (см. табл. 4.21)
Е.
Вильбур дополняет эти сведения географическим анализом и показывает, что в
четырех из 12 уездов губернии среднее число лошадей и волов на двор составляло
3,3, то есть это были довольно зажиточные уезды. В целом, по мнению Е. Вильбур,
положение крестьян Воронежской губернии было отнюдь не бедственным и имелось
много зажиточных хозяйств[102]. В этом нет ничего удивительного: материалы Л. Н Маресса (табл.
4.12) показывают, что Воронежская губерния была самой зажиточной губернией
Черноземья, здесь преобладали бывшие государственные крестьяне, и положение
крестьян было много лучше, чем в северной части района.
|
|
крестьяне-рабочие |
Хозяйства с числом голов рабочего скота |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 и
более |
||
|
Процент
хозяйств в губернии |
18 |
27 |
26 |
14 |
8 |
7 |
|
Душ
на семью |
4,5 |
5,4 |
8,2 |
11,6 |
11,1 |
12,1 |
|
Доходы
(руб.) |
159 |
220 |
469 |
724 |
832 |
1034 |
|
В т. ч. в %: от земледелия и сдачи земли в аренду |
26 |
43 |
50 |
59 |
59 |
48 |
|
от скотоводства |
12 |
25 |
19 |
23 |
21 |
28 |
|
От "личных промыслов" (работа по найму,
ремесло) |
52 |
23 |
17 |
10 |
16 |
10 |
|
от "предприятий" |
2 |
3 |
10 |
4 |
3 |
11 |
|
прочее |
8 |
6 |
4 |
4 |
1 |
2 |
|
Расходы
на хозяйство |
30 |
88 |
176 |
319 |
381 |
518 |
|
Чистый
доход |
129 |
132 |
293 |
405 |
451 |
516 |
|
Чистый
доход на душу (руб.) |
29 |
24 |
36 |
35 |
41 |
43 |
|
Расходы
на душу: |
28 |
26 |
33 |
36 |
40 |
43 |
|
в т.
ч.: на пищу |
16 (57%) |
15(61%) |
19(54%) |
22(63%) |
23(57%) |
24(57%) |
|
остальные личные
потребности |
10(35%) |
8(32%) |
11(30%) |
11(32%) |
13(32%) |
16(37%) |
|
подати и повинности |
2(7%) |
3(12%) |
3(9%) |
3(8%) |
3(8%) |
4(9%) |
|
потребление
на душу (по 66 хозяйствам) |
||||||
|
хлебные
продукты |
17,4 |
16,4 |
23,2 |
22,8 |
25,1 |
26,2 |
|
Мясо |
0,59 |
0,49 |
1,18 |
1,29 |
1,79 |
1,79 |
Табл. 4.21. Средняя численность семей в Воронежской
губернии и их доход в зависимости от числа лошадей[103].
С другой стороны, данные об уровне
смертности показывают более негативную картину. Данные, представленные в
таблице 4.22 получены в результате проведенной в губернии сплошной подворной
переписи.
|
|
|
Десятин на двор |
|||
|
безземельные |
до 5 |
5-15 |
15-25 |
св. 25 |
|
|
% хозяйств по губернии |
4 |
23 |
49 |
18 |
6 |
|
Душевое потребление хлеба и
картофеля (пуд.) |
11,5 |
18,0 |
19,1 |
21,5 |
22,4 |
|
Душевое потребление мяса (пуд.) |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
|
В % к численности группы в
среднем за год: умерших |
3,41 |
3,5 |
3,32 |
2,86 |
2,62 |
|
калек |
3,91 |
1,78 |
1,47 |
1,15 |
0,88 |
|
больных |
0,97 |
0,58 |
0,42 |
0,32 |
0,25 |
Табл. 4.22. Уровень питания, смертности и заболеваемости
в зависимоcти от размера надела в Воронежской губернии[104].
Несмотря на то, что малоземельные
крестьяне (до 5 дес.) потребляли лишь на 17% меньше хлеба, чем зажиточные
(имевшие 15-25 дес.) уровень заболеваемости и смертности у них был намного
выше, что свидетельствует о большом значении других факторов, одним из которых,
очевидно, являлись тяжелые условия жизни отходников. Комиссия под
председательством Ф. А. Щербины, проводившая бюджетное обследование в
Воронежской губернии, в целом давала пессимистическую оценку уровня жизни
воронежских крестьян. В докладе комиссии отмечалось, что 55% общин не могли
прокормиться со своих наделов. «В чисто земледельческой местности, производящей
исключительно зерно, часть населения из года в год недоедает, болеет, вымирает,
совершает преступления, не имея хлеба и средств для добывания его в достаточном количестве»[105].
Обследование Полтавской губернии было
проведено в спешном порядке сразу же после крестьянских волнений 1902 года. При
этом оценивался лишь узкий круг показателей, непосредственно связанных с
продовольственной обеспеченностью крестьянских хозяйств (см. табл. 4.23).
|
|
Без
посева |
Размеры посева в дес. |
|||||
|
До 1 |
1-3 |
3-6 |
6-9 |
9-15 |
15-50 |
||
|
%
хозяйств по губернии |
24 |
6 |
23 |
25 |
11 |
7 |
3 |
|
Душевое
потребление хлеба (пуд.) |
|
|
12,8 |
17,1 |
18,4 |
20,0 |
21,2 |
Табл.
4.23. Уровень потребления хлеба в Полтавской губернии в зависимости от размеров
посевной площади[106].
Как показывают данные табл. 4.23, уровень
потребления в Полтавской губернии был значительно ниже, чем в Воронежской.
Обращает на себя внимание большое количество хозяйств, вообще не имевших посева
– их было почти четверть. В хозяйствах без посева и с посевом до 1 дес.
потребление, очевидно, было не выше, чем в хозяйствах с посевом в 1-3 дес.,
поэтому можно заключить, что, по крайней мере, половина хозяйств губернии
потребляла хлеба меньше минимальной нормы. В контексте событий 1902 года это подтверждает прогноз
демографически-структурной теории о том, что падение потребления в низших слоях
населения может привести к восстаниям прежде, чем среднее потребление упадет
ниже критического уровня.
В то время как Воронежская и Полтавская
губернии имели земледельческую специализацию, Калужская губерния принадлежала к
промышленному Центральному району. Продукция среднего крестьянского надела в
Калужской губернии была почти вдвое меньше, чем в Воронежской, и огромную роль
приобретали промысловые занятия крестьян, в основном, отходничество в Москву и
другие города. При этом оставались большие резервы незанятого рабочего времени
– в среднем 288 дней на двор, при 265 рабочих днях в году. По существу, один человек на двор оставался безработным
– это было следствие аграрного перенаселения и невозможности найти работу в
городах[107].
При среднем урожае от промыслов и работы в
чужих хозяйствах калужские крестьяне получали в среднем 52% своих доходов[108]. Однако даже с учетом этой
добавки средний доход крестьянского хозяйства в Калужской губернии был в 1,6
раза меньше, чем в Воронежской губернии,
калужане расходовали меньше средств на одежду и жилище, расходы на пищу в
деньгах были практически одинаковы, но цены на зерно в Калужской губернии были в
полтора раза выше, чем в Воронежской. Налоги, как и в Воронежской губернии,
отнимали примерно десятую часть чистого дохода крестьян (табл. 4.24).
Существенно, что если в прежние времена
крестьяне ходили в домотканой одежде и получали топливо, а также строительные
материалы из ближайшего леса, то теперь им приходилось покупать одежду, обувь,
дрова и некоторые продукты питания на рынке. Чтобы купить необходимые товары,
крестьяне должны зарабатывать деньги промыслами или продавать часть зерна.
Таким образом, в новых условиях крестьянин должен производить не только зерно, необходимое для пропитания,
корма скоту и уплаты налогов, но и иметь некоторый излишек для продажи.
|
|
Калужская губ. |
Воронежская губ. |
|
Чистый доход |
29,5 |
47,2 |
|
Расходы |
31,6 |
37,8 |
|
В том числе: на питание |
21,6
(68%) |
20,6
(54%) |
|
на одежду |
3,5
(11%) |
6,0
(16%) |
|
на жилище |
2,8
(9%) |
3,9
(10%) |
|
Налоги |
3,1
(10%) |
3,2
(8%) |
|
Религиозные расходы |
0,6
(2%) |
2,4
(7%) |
|
Прочие расходы |
0,0 |
1,7
(4%) |
Табл.
4.24. Сравнение душевых доходов и расходов крестьян в Калужской и Воронежской
губерниях (в рублях) [109].
В промысловой Калужской губернии
потребление хлеба в расчете на душу мало зависело от размера посева. Если не принимать
во внимание самых богатых и самых бедных крестьян, то потребление остальных
групп примерно соответствовало минимальной потребительской норме в 15 пудов.
Более низкий средний уровень жизни обуславливал значительно более высокий
уровень смертности, чем на Черноземье. Характерно также, что (как и в
Воронежской губернии) размеры посева более сильно сказывались на уровне
смертности, чем на уровне питания.
|
|
Без посева |
Величина посева в дес. |
В среднем |
||||
|
До 3 |
3-6 |
6-9 |
9-12 |
Св.12 |
|||
|
% хозяйств по уезду |
5,6 |
27,4 |
39,0 |
17,5 |
6,0 |
4,3 |
|
|
% рабочих дней, занятых на промыслы |
56,1 |
24,1 |
19,1 |
18,6 |
17,4 |
13,1 |
19,1 |
|
Число рабочих дней на двор, остающихся незанятыми |
14 |
182 |
262 |
348 |
39 |
501 |
288 |
|
Душевое потребление хлеба и картофеля (пуд.) |
11,6 |
15,4 |
15,1 |
15,6 |
15,2 |
15,8 |
|
|
Душевое потребление мяса и сала (пуд.) |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
|
|
На 100 рабочих дней потеряно по
болезни |
58 |
15 |
14 |
13 |
12 |
7 |
13 |
|
% умерших за год в
данной группе |
|
5,04 |
4,11 |
4,38 |
3,97 |
2,6 |
4,1 |
Табл. 4.25. Уровень
питания, смертности и заболеваемости в зависимости от размера надела в Козельском
уезде Калужской губернии (1896 г.)[110].
4.4.10.
Данные о состоянии здоровья населения
Еще одним проявлением
Сжатия было ухудшение биологического статуса населения.
«Плохое питание, сменяющееся полным
голоданием… имеет своим следствием ухудшение народного здравия, – писал А. А.
Кауфман, – мало того – прямое физическое вырождение народных масс. Это ясно
видно из данных о числе забракованных при приеме на военную службу…»[111]
Изменение количества призывников,
забракованных медицинскими комиссиями, и средний рост рекрутов в определенной
степени отражают изменения в уровне жизни населения. Динамика этих показателей
была подробно исследована Б. Н. Мироновым, причем установлено, что наиболее
надежные данные относятся к 1874-1912 годам, когда требования, предъявляемые к
призывникам, оставались неизменными.
|
|
1874-78 |
1879-83 |
1884-88 |
1889-93 |
1894-98 |
1899-1901 |
1902-05 |
1906-09 |
1910-13 |
|
% забракованных |
11,2 |
14,9 |
16,9 |
17,9 |
17,7 |
22,1 |
19,9 |
18,3 |
19,4 |
|
Рост,
мм |
1622 |
1620 |
1621 |
1634 |
1642 |
1647 |
1649 |
1651 |
1651 |
Табл. 4.26.
Результаты врачебного осмотра призывников[112].
Количество призывников, забракованных по
состоянию здоровья, за 1874-1901 гг. возросло почти вдвое, причем наибольший
рост наблюдался в Черноземье, а наименьший – в Новороссии[113]. «Понижение достатка в земледельческом населении коренных русских
губерний, дававших основу нашей армии, – писал военный министр генерал А. Н.
Куропаткин, – отразилось понижением физических качеств населения, уменьшением
роста, замедлением физического развития, большей восприимчивостью к
заболеванию. Когда земля стала плохо кормить население, увеличилось хождение на
заработки, в том числе и в города. В деревнях развился сифилис, занесенный из
городов и фабрик, число сифилитиков, поступающих в войска, стало увеличиваться.
Увеличились также заболевания, связанные с алкоголизмом. Очень возросло и
заболевание глазами»[114].
Известный исследователь Д. Н. Жбанков
писал в 1904 году: «Здоровье и физическое развитие призываемых непрерывно и в
очень значительной степени ухудшается по всей России… Очевидно, хронические
неурожаи и голодовки и постоянно ухудшающееся благосостояние сельского
населения сильно отражается на здоровье народа»[115].
Тем
не менее, несмотря на увеличение отбраковки призывников, после 1889 года
отмечалась тенденция к увеличению их роста. В этой связи Б. Н. Миронов отмечает, что «по-видимому, с
1890-х годов в питании крестьянства наметился перелом и в дальнейшем, до 1914
года, оно устойчиво улучшалось»[116]. Действительно, после
голода 1892 года имело место некоторое увеличении среднего душевого потребления
(см. табл. 4.8 и рис. 4.12), но, если учесть увеличение расхода зерна фураж, то этот рост, по-видимому, не был столь
значительным, чтобы вызвать зафиксированную источниками экселерацию. В принципе,
в традиционном обществе наличие связи между потреблением и биометрическими
показателями несомненно, и мы (вслед за Б. Н. Мироновым) использовали эту связь
для характеристики уровня потребления в XVIII
веке (см. п. 3.6). Однако в конце XIX века
ситуация осложняется в связи с влиянием новых факторов, связанных с начавшимся
процессом модернизации. Несомненно, очень существенное влияние на показатель роста оказывали улучшение гигиенических условий
и успехи здравоохрания. Кроме того, специалисты отмечают, что одной из причин
начавшейся экселерации было явление гетерозиса – усиление жизненности у
потомков, родившихся в результате смешанных браков; это резкое усиление
процессов смешения населения было вызвано освобождением крепостных крестьян и
появлением железных дорог[117].
Если бы причиной увеличения роста рекрутов было существенное
увеличении потребления, то, очевидно, это привело бы также и к уменьшению доли забракованных рекрутов.
Однако в действительности эта доля увеличивалась одновременно с ростом
призывников вплоть до 1901 года, и впоследствии, несмотря на некоторое
уменьшение, оставалась высокой. Более того,
имелась положительная и довольно существенная корреляция между процентом
забракованных и ростом призывников (0,78) – как будто увеличение роста
призывников свидетельствовало не об их здоровье, а, скорее, наоборот. Таким образом,
хотя связь между увеличением роста призывников и увеличением потребления имела
место, в данном случае она не была ярко выраженной, и на основании этой связи
вряд ли можно делать вывод о значительном росте потребления.
Б. Н. Миронов также отмечает, что коэффициент корреляции между процентом забракованных новобранцев и
сбором хлебов на душу населения в 13 регионах России оказывается очень низким
(0,329), что «питание не являлось фактором полностью или в решающей степени
определявшим состояние здоровья населения. Правильнее говорить о целом комплексе
причин, таких, как жилище, потребление алкоголя, медицинское обслуживание,
санитарные условия, распространение отхожих промыслов и др.»[118]
4.4.11. Аграрное перенаселение как признанная реальность
В конце 90-х годов
огромный рост недоимок в Черноземном районе (и в соседних губерниях) побудил
правительство обратить внимание на положение крестьян в этом регионе. В конце 90-х годов проблема «оскудения Центра» была признана
официально, она стала объектом рассмотрения специально созданных совещаний:
«Особого совещания» под председательством А. И. Звегинцева, «Комиссии 1901
года», «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности»[119]. «Комиссия 1901 года» проделала огромную работу по сбору и
обработке статистических сведений, результатом которой стал известный
статистический сборник, служащий ценным источником для характеристики социально-экономического
развития России[120]. Выводы комиссии сводились к тому, что главной причиной
«оскудения» является перенаселение.
Подсчитав общее число рабочих, необходимых для промышленности, ремесла и
сельского хозяйства, комиссия нашла, что для 50 губерний Европейской России количество
излишних рабочих составляло 23 млн., а процент излишних рабочих к наличному
числу их составлял 52%. Особенно высоким этот процент был на Черноземье, где он
составлял от 64 до 67%[121].
Эти впечатляющие цифры были признаны
многими специалистами-историками. С. М. Дубровский и П. А. Хромов, повторяя
цифры «Комиссии 1901 года», писали о том, что половина трудоспособного
населения деревни относилась к числу «лишних людей»[122]. А. М. Анфимов подчеркивал, что в центральных районах
существовало «колоссальное аграрное перенаселение»[123]. Некоторые специалисты, однако, признавая большие масштабы
перенаселения, на основании своих подсчетов выводили процент излишней рабочей
силы меньший, чем «Комиссия 1901 года». Так Л. И. Лубны-Герцык полагал, что на
Черноземье не использовалось 28% рабочего времени сельского населения[124]. А. В. Островский уменьшал цифру «излишнего населения» для
Европейской России и черноземной полосы до 27-35%[125].
Однако П. Г. Рындзюнский подверг сомнению
саму методику определения «излишнего населения», исходя из производственных
возможностей крестьянского хозяйства. Действительно, теоретически одна семья
могла обработать надел, достаточный для прокормления двух-трех семей, которые
при таком подходе оказывались «излишними». Рындзюнский полагает, что надел,
достаточный для удовлетворительного существования семьи, был равен 15
десятинам, умножает эту величину на количество дворов и получает необходимое
количество земли; сопоставляя эту величину с реально имеющимся количеством,
можно найти «степень удовлетворенности» крестьян землей. При таком подходе оказывается,
что степень удовлетворенности землей крестьян Европейской России была равна 83%
– «излишними» были только 17% дворов. В целом перенаселение было как будто
невелико, однако существовали огромные порайонные различия: в то время как в Северо-Западном
и Степном районах обеспеченность была значительно выше 15-десятинной нормы, на
Черноземье существовал огромный очаг аграрного перенаселения. Степень земельной
удовлетворенности крестьян семи черноземных губерний была равна 57%, то есть
43% крестьян этого региона были «лишними»[126].
Наконец, относительно недавно (в 2001
году) В. Г. Тюкавкин попытался пересмотреть вопрос об аграрном перенаселении,
утверждая, что нормой крестьянского надела для Европейской России нужно считать
не 15, а 9 десятин. Однако и при таком подходе, признает В. Г. Тюкавкин, группа
общинных дворов, недостаточно обеспеченных землей, составляла 54,3%. «Главная
же беда великоруской деревни Центра, – отмечает В. Г. Тюкавкин, – была в
неравномерном распределении земли… По данным ВЭО, только в результате
неравномерного распределения надельных земель сборы хлеба с них не обеспечивали
в черноземной полосе 64,3% проживающих там крестьян»[127]. Таким образом, В. Г.
Тюкавкин акцентирует роль имущественного расслоения крестьянства, что соответствует
требованиям демографически-структурной теории.
В итоге, при любом подходе, как отмечал П. Г. Рындзюнский,
«наличие аграрного перенаселения в пореформенной России – факт несомненный…»[128].
Правительственные комиссии еще продолжали свою
работу, когда в марте-апреле 1902 года крестьянские волнения охватили несколько
смежных уездов Полтавской и Харьковской губерний. Волнения были вызваны голодом
в результате неурожая в предшествующем году; крестьяне врывались в помещичьи
экономии и забирали хранившийся в них хлеб; другое имущество и людей, как
правило, не трогали. В общей сложности было «разобрано» 105 помещичьих
экономий, в волнениях участвовало 38 тыс. человек[129].
Причины волнений стали объектом
рассмотрения Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Полтавский губернатор князь Урусов доказывал, что главной причиной является
малоземелье, и иллюстрировал земельную нужду крестьян следующими цифрами: при
средней по губернии земельной обеспеченности в 6,1 дес. на двор 17%
крестьянских хозяйств были безземельными, 35% малоземельных хозяйств имели в
среднем по 1,5 дес. на двор. За 10 лет численность рабочего скота сократилась
наполовину, и 38% хозяйств вообще не имели лошадей и волов. Цены земли и
аренды, отмечал Урусов, в последнее время непомерно возросли, а доходы
отходников упали вследствие распространения сельскохозяйственных машин в южных
губерниях. (В дополнение к данным Урусова можно отметить, что стоимость аренды
на полтавщине была такова, что арендатор получал меньше половины урожая с
арендованной земли.)[130]
Для решения
земельной проблемы Урусов предлагал переселить на свободные земли окраин половину
малоземельных крестьян губернии – ни много, ни мало, 337 тысяч человек. Полтавский губернатор стал одним из инициаторов разработки
закона о переселении крестьян; предлагалось перейти к форсированному выселению
из Центра на окраины деревенской бедноты. Закон 6 июня 1904 года должен был
облегчить переселение, установив принцип вознаграждения переселенца за
оставляемый в общине надел (правда, вступление закона в силу было отложено до
окончания войны с Японией). Чтобы помочь крестьянам, в августе 1904 года были
отменены огромные недоимки по выкупным платежам. В 1903-1904 гг. были приняты
также законы об отмене круговой поруки в общине и об отмене телесных наказаний
крестьян[131].
Эти новые законоположения означали
коренную переоценку правительством роли общины, как в поддержании
благосостояния крестьян, так и в обеспечении уплаты податей. Община уже не считалась
«страховым учреждением от безземельности и бездомности». Новый взгляд на общину
был обоснован С. Ю. Витте в известной «Записке по крестьянскому делу»[132]. Витте указывал на рост малоземелья как на главную причину крестьянских бедствий. Если крестьянам по-прежнему
будет закрыт выход из общины, то в общине
будет действовать закон Мальтуса, писал Витте. Поэтому «надо установить, чтобы каждый крестьянин,
освобождающий землю, получал известное вознаграждение за нее и мог уйти»[133].
Таким образом, политики того времени, имея
на руках подробную информацию, вполне реально оценивали роль перенаселения и
даже ссылались на мальтузианскую теорию.
4.4.12. Динамика народа: положение наемных рабочих
Хотя крестьянство
составляло подавляющую часть населения России, понятие «народ» не исчерпывалось
крестьянством, в него входили также наемные рабочие разных категорий. В конце XIX века, по некоторым данным, в Европейской России
насчитывалось около 10 млн. ежегодно работавших по найму[134], но это были не постоянные рабочие; это были по преимуществу
крестьяне-отходники или батраки. Наиболее многочисленную группу составляли
батраки, которые нанимались на разные сроки, на несколько дней, на лето, на
год. Вследствие кратковременности земледельческого сезона, когда «день кормил
год», поденная плата батраков в сезон была довольно велика (см. рис. 4.20), но
большую часть года они не имели работы, поэтому плата за летний день ничего не
говорит об их уровне жизни. Формально рабочие и батраки получали не меньше, чем
в «благополучные» времена XVII века, но, как отмечалось в п. 3.1.5, структура
расходов и доходов в те времена и в конце XIX века была несопоставимой, поэтому
какое-либо сравнение уровня жизни не может быть правомочным.
Сравнивая рисунки 4.20 и 4.18 можно
заметить, что тренд реальной заработной платы на Черноземье ведет себя примерно
так же, как тренд душевого сбора; он колеблется, но в целом имеет скорее
нейтральную тенденцию. Оплата рабочих, нанимавшихся на целый год, более
репрезентативна; в среднем по Черноземью она составляла 70-х годах 49 руб., в
80-х – 51 руб., в 90-х – 53 руб. (в пересчете на хлеб 93, 92 и 98 пудов)[135]. Рублевая плата батрака практически совпадает с той суммой (52
руб.) которую, по воронежскому обследованию, получала от работы по найму и
других «промыслов» средняя семья крестьян-рабочих (табл. 4. 21). Как показывают
результаты обследования, семьи крестьян-рабочих относились к числу бедных, и,
судя по динамике заработной платы, их положение на протяжении 30 лет
существенно не менялось.
Другую значительную группу (ок. 3 млн.)
составляли строительные рабочие, а также землекопы, грузчики и различные
чернорабочие. Обычно это были отходники, которые уходили из деревни на лето;
большую часть года строители были без работы, поэтому их довольно высокая
поденная плата, так же как в случае с батраками, мало что говорит об уровне
жизни. Как видно из рис. 4.20, динамика оплаты строительных рабочих, в общем,
подобна динамике оплаты батраков, но спад 1891-1895 года менее выражен, и, в то
время как для чернорабочих (так же как для батраков) общая тенденция нейтральная,
для более квалифицированных рабочих (плотников) она скорее слабо повышательная.
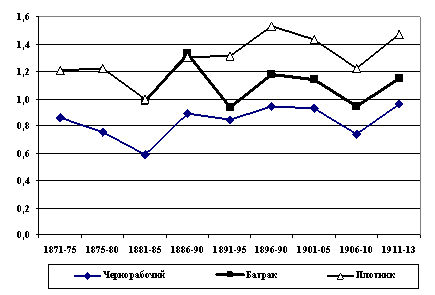
Рис. 4.20. Средняя
поденная плата батрака в период уборки урожая на Черноземье и строительных рабочих
(плотников и чернорабочих) в Петербурге в пудах ржи[136]
Существовала также категория
рабочих-надомников (ок. 2 млн.) – ремесленники или крестьяне, работавшие в
свободное время на купца-скупщика. Все перечисленные выше категории наемных работников
объединяло то, что, в принципе, их существование не было связано с промышленным
переворотом и развитием фабричной промышленности – такие группы рабочих
существовали и в допромышленных аграрных обществах. Однако, кроме перечисленных
категорий, существовали еще фабрично-заводские рабочие – новая прослойка
населения, появившаяся с развитием фабричной промышленности. В 1890 г. в
Европейской России насчитывалось 840 тыс. фабрично-заводских рабочих, в 1901 г.
– 1262 тыс.; при общем количестве работников в 44,7 млн. это составляло около
2% всех лиц работоспособного возраста[137]. Если иметь виду чисто количественные отношения, то Россия на 98 процентов оставалась традиционным обществом
с традиционными социальными связями и социальной структурой. Теодор фон Лауэ утверждал, что в России, по существу, не было
классов капиталистического общества, то есть, они находились в зачаточном
состоянии[138]. Это в целом, оправдывает наш подход к изучению
демографических циклов в России как циклов, характерных для традиционного
общества.
Однако все же необходимо более тщательно
присмотреться к новым элементам российского общества: что нового привносили они
в систему социальных взаимодействий, и насколько велика была их роль?
Прежде всего, необходимо отметить, что в
конце XIX – начале XX века российский рабочий класс находился еще в процессе
формирования. Еще в 1895 году С. Ю. Витте заявлял, что, к счастью, в России не
существует, в отличие от Западной Европы, ни рабочего класса, ни рабочего
вопроса[139]. Немецкий историк Б. Бонветч доказывает, что в России накануне
революции еще не существовало класса «потомственных рабочих» и что промышленных
рабочих еще нельзя было отделить от крестьян-отходников[140]. Действительно, рабочий
класс не соответствовал обыденным представлениям о стабильной социальной группе. В 1897 году среди городских рабочих Европейской России было 59%
одиноких, а в Петербурге число одиноких достигало 87%. Таким образом,
подавляющее большинство рабочих не имело семей – это были холостяки. По данным
петербургского обследования 1908 года 67% этих холостяков (и 42% семейных)
посылали деньги своим родным в деревню: средний размер посылки составлял 73
руб. у холостых и 39 руб. у семейных, в то время как средняя зарплата составляла
312 руб.[141] Эти данные наводят на мысль, что большинство петербургских рабочих
были попросту отходниками, которые, возможно, проживали в городе годами, но
сохраняли связи со своими семьями в деревне. «Не состоит ли наш рабочий класс
из холостой, покинувшей свои семьи молодежи?» – спрашивает С. Н. Прокопович и
отвечает на свой вопрос статистическими данными: 56% рабочих Петербурга имели
возраст 20-39 лет, в то время как в среднем по стране к этой возрастной категории
принадлежало 39% населения[142]. «Вплоть до 1917 г. подавляющее большинство рабочих оставалось
крестьянами, зарегистрированными в сельских обществах и владельцами надельной
земли», – констатировал Дж. Уолкин[143]. Мнения о том, что «русский рабочий в массе своей есть русский
крестьянин» придерживались также многие историки
народнического и либерального направлений[144].
Не имея семей, большинство рабочих не
имело и квартир. Около 70% одиноких рабочих и 43% семейных снимали «угол».
«Угол» – это кровать, иногда (когда живет семья) отгороженная занавеской.
Холостяки часто спали прямо на полу, в коридорах, на кухне и т.д. Наем комнаты
обходился в 50-130 рублей, и лишь немногие могли это себе позволить. Что
касается других параметров уровня жизни, то, по данным опроса, половина рабочих
могла позволить себе покупку лишь поношенной одежды, и почти никто не мог
позволить себе питаться в трактире. При такой экономной жизни на пищу, одежду,
жилище уходило около 80% зарплаты, остальное отсылалось в деревню[145].
При
всем этом уровень зарплаты петербургских фабрично-заводских рабочих был самым
высоким в России – в 1901 году он составляя 302 руб. в год. В Москве рабочие
получали в среднем 202 руб., на Черноземье (в Рязанской губернии) – 123 руб., в
среднем по России -187 руб. В 1904 году средний рабочий день продолжался 10,6
часа; в году в среднем насчитывалось 287 рабочих дней. Чрезмерная продолжительность
рабочего дня приводила к чрезвычайно широкому распространению профессиональных
заболеваний. Один из докладчиков на торгово-промышленном съезде 1896 года
отмечал, что рабочие-прядильщики выглядят, как «молодые старики». Условия жизни
были таковы, что мало кто из рабочих доживал до 60 лет; по переписи 1897 года
лиц старше 60 лет среди рабочих насчитывалось 1,0%, в то время как в среднем по
всему населению – 9,6%[146].
В принципе, заработная плата одного
рабочего была сопоставима с доходом крестьянского хозяйства, но условия жизни рабочих – дорогие жилье и продукты,
продолжительный рабочий день, исключительно плохие санитарные условия и т.д. –
делают невозможным сравнение с жизнью крестьян.
Суммарная
характеристика условий жизни рабочих сводится к тому, что большинство из них не
могло содержать семью. «Для большинства рабочих в
Питере семья была недоступной роскошью», – подчеркивает С. Н. Прокопович[147]. Рабочий класс, таким образом, мог существовать и расти только за
счет притока извне, из крестьянской среды. С демографической точки зрения
невозобновляемость населения (в традиционном обществе) есть признак крайне
тяжелых условий существования, поэтому «революционное» настроение рабочего
класса представляется вполне естественным.
Среди условий жизни рабочих особое место
занимает необеспеченность постоянной занятости, возможность в любой момент
оказаться на улице без средств существования. Это обстоятельство отчасти объясняет,
почему преступность среди рабочих в 19 раз превышала преступность среди
крестьян. В годы кризисов на улицах городов оказывались тысячи голодных,
озлобленных и готовых к бунту безработных. Сосредоточение недовольных в больших
городах, в особенности в столицах, многократно увеличивало для правительства
опасность восстаний. Возвращение тысяч уволенных «отходников» в деревню также
грозило опасностью, так как многие из них становились агитаторами, призывавшими
полуголодных крестьян к неповиновению и бунту.
Еще одним фактором психологической
эмансипации рабочих был их высокий уровень грамотности. На рубеже столетий
среди рабочих Петербургской губернии было 69% грамотных, в среднем по России –
54%, в то время как грамотность среди крестьян составляла 23%[148]. Как отмечалось выше, К. П. Победоносцев и С. Ю. Витте
непосредственно связывали рост протестных настроений с ростом грамотности
народных масс.
Таким образом, рост рабочего класса представлял опасность для властей,
так как рабочие массы имели низкий жизненный уровень при относительно высоком
уровне грамотности, они были сконцентрированы в больших городах и в столицах, и
могли быть спровоцированы на выступления массовыми увольнениями в периоды
экономических кризисов.
Правительство предпринимало некоторые
меры, чтобы улучшить положение рабочих, так, в 1897 году был принят закон об
ограничении рабочего дня 11,5 часами и обязательном воскресном и праздничном
отдыхе. Однако в трудовых конфликтах власти, как правило, выступали на стороне
предпринимателей, по закону 1886 года подстрекательство к стачке каралось 4-8
месяцами тюрьмы, участие в ней – 2-4 месяцами. Выработка действенного рабочего
законодательства затруднялась бытующим представлением о том, что отношения
между буржуа и рабочими в России не такие как на Западе, что они сохраняют
свойственный «русскому духу» патриархальный характер[149].
4.4.13. Политический кризис 1900-1903 годов
Новое обострение политической борьбы
началось, как и в 70-х годах, со студенческих волнений. Кризис элиты, временно
притушенный субсидиями Дворянского банка, в конце 90-х годов вновь вышел на
поверхность. Разорение мелкого дворянства продолжалось неослабевающими темпами,
численность дворянства росла, и как отмечалось выше, за 1870-1897 гг.
количество земли, приходящейся на одного дворянина, уменьшилось почти вдвое.
Соответственно, увеличивался поток дворян, добивавшихся казенного жалования на
чиновных местах; стремление получить должность было одним из главных стимулов
поступления в университеты, и двойное увеличение количества студентов в
1880-1900 годах отражает нарастание конкуренции за места. В 1900 г. (как и в
1880 г.) половина студентов происходила из дворян; их материальное обеспечение
было по-прежнему низким, а шансы устроиться на должность малы: число
чиновничьих должностей увеличилось лишь на 10%. Таким образом, кризис низших слоев элиты, как и в 70-х годах,
способствовал новой вспышке студенческих волнений и новой активизации
«народников», которые теперь называли себя
«социалистами-революционерами», «эсерами»[150].
Движение студентов началось в феврале 1899
года с локального конфликта в Петербургском университете, когда жестокость,
проявленная полицией, спровоцировала массовое движение протеста. Были перерваны
занятия в 17 вузах; в студенческой забастовке приняло участие 25 тыс.
студентов, которые требовали наказания полицейских чинов, неприкосновенности
личности и университетской автономии. Из обеих столиц было выслано около 3 тыс.
«зачинщиков», но в конце 1900 года волнения вспыхнули вновь, причем на этот раз
студенты пытались привлечь к демонстрациям рабочих[151].
В 1901 году, когда студенческие
демонстрации уже пошли на спад, к студентам стали присоединяться рабочие:
начался промышленный кризис. В 1900-1902 годах были уволены десятки тысяч рабочих,
и общая численность промышленного пролетариата сократилась на 200 тыс. человек;
на всех предприятиях происходило снижение заработной платы. По-существу, это
был первый кризис для молодой российской промышленности, и власти впервые
столкнулись с неожиданным для них сопротивлением людей, теряющих заработки и
средства к существованию. Поведение рабочих было не похоже на поведение
привыкших к терпению крестьян; в нескольких городах произошли кровопролитные
столкновения с полицией. В марте 1903 года в Златоусте полиция расстреляла
демонстрацию рабочих, было убито 69 человек[152].
Весной 1902 года голод вызвал волнения
крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях. Во время следствия власти
пытались выяснить, не были ли волнения спровоцированы агитаторами из студентов
или рабочих. Агитаторов не нашли, но идейная связь со студенческим движением
все же имелась: крестьяне говорили, что их действия соответствуют некоему
«манифесту», провозглашенному якобы великим князем Михаилом, «которому помогают
студенты». Были найдены также листовки, копии которых крестьяне делали сами и
передавали из деревни в деревню. За пятнадцать лет число грамотных среди
крестьян возросло с 10 до 23%, а среди взрослых мужчин – даже до 36%. Крестьянами
руководили грамотные вожаки, и что немаловажно – среди них было много бывших
солдат, отслуживших в армии и вернувшихся в свою деревню[153].
Таким образом, в
соответствии с теорией, оппозиционные фракции элиты, в данном случае студенты и
интеллигенция, поощряли крестьян и рабочих на противодействие властям, но цели
протестующих были различными. Если студенты выступали против властей, то крестьяне, в основном,
выступали против помещиков, а рабочие – против промышленников. В количественном
отношении активность различных групп можно сопоставить через численность
арестованных по политическим обвинениям: в 1901-1903 годах среди арестантов
было 11% дворян и детей чиновников, 9% крестьян и 47% рабочих. По сравнению с
1884-1890 годами среднегодовое число арестованных увеличилось в пять раз, при
этом, хотя число арестованных дворян и детей чиновников не уменьшилось, их доля
в массе арестантов снизилась почти втрое, а доля рабочих (среди которых было
много крестьян-отходников) увеличилась более чем втрое[154]. Таким образом, при
сохраняющейся высокой активности оппозиционных слоев элиты, происходил процесс
вовлечения в политическую борьбу народных масс
– прежде всего,
рабочих.
Однако правительство, по-видимому, не
считало, что крестьянское (и даже рабочее) движение представляет для него
существенную опасность. Крестьяне еще не решались оказывать сопротивление
войскам и полиции, и их наказали «по-отечески»: было высечено несколько сот
«зачинщиков». Что касается рабочих, то власти старались смягчить остроту
конфликта; правительство пыталось проводить по отношении к рабочим, как и к
крестьянам, «политику попечительства». В 1903 году был издан закон об
ответственности предпринимателей за несчастные случаи на производстве; другой закон
вводил должность выборных рабочих старост. Газеты писали о «полицейском
социализме», полиция под руководством полковника С. В. Зубатова участвовала в
создании рабочих обществ и касс взаимопомощи. 19 февраля 1902 г. была
организована грандиозная верноподданическая манифестации рабочих в Кремле[155].
4.5. Выводы
С точки зрения неомальтузианской теории
наиболее важным процессом первой половины XIX века было замедление процесса
колонизации и сопутствующее росту населения падение потребления. Имеющаяся информация о
посевах и сборах выявляет классическую картину «мальтузианских ножниц»:
население растет, а потребление падает и в середине столетия достигает
минимально возможной нормы. При этом региональные данные выявляют существенные
различия между регионами: оказывается, что падение душевого сбора проявляется
наиболее ярко в Черноземном районе, в то время как в Центральном районе душевой
сбор был близким к минимальной норме уже в начале века и на протяжении периода
почти не менялся. Соответственно, рост населения в Центральном районе был
медленным и к концу периода практически прекратился, на Черноземье же он был
более значительным, хотя тоже замедлился.
Падение потребления до
минимума и демографическая стагнация являются основными признаками наступившего
Сжатия; помимо этих признаков на протяжении всего
периода мы наблюдаем в Центральном районе и другие явления, характерные для
периода Сжатия: частые
сообщения о голоде и стихийных бедствиях, крестьянское малоземелье, разорение
крестьян, быстрое развитие ремесел и торговли, дешевизна рабочей силы, высокие
цены на хлеб, уход крестьян в города, быстрый рост городов.
Анализ в рамках демографически-структурной
теории позволяет существенно дополнить эту картину. После убийства Павла I
баланс сил в борьбе за распределение ресурсов вновь изменился в пользу
дворянства. Ограничив претензии государства, дворянство приступило
(после войны 1812 года) к неслыханному до тех пор увеличению оброков и барщин
крепостных крестьян. В контексте теории эта
экспансия отчасти объясняется непропорциональным ростом численности дворянства
и уменьшением числа крестьян, приходящихся на одно дворянина, однако в данном
случае большую роль сыграло также влияние диффузионного фактора. Как
свидетельствуют современники, рост потребностей дворян объяснялся их
стремлением жить так, как жили их европейские собратья.
В
результате резкого перераспределения ресурсов в пользу элиты крестьянам был
оставлен лишь минимум жизненных средств.
Это привело к хроническому недоеданию среди крепостных, в годы неурожаев
превращавшемуся в голод, сопровождаемый эпидемиями. Рост численности
крепостных фактически прекратился, и, таким образом, мы наблюдаем (в дополнение
к общей картине) картину исключительно интенсивного Сжатия внутри одного
сословия – Сжатия, вызванного не ростом численности этого сословия, а сужением
его экологической ниши в результате усиления эксплуатации. В конечном счете, это Сжатие привело к демографическому кризису
1847-1848 года, когда голод и эпидемии унесли жизни примерно одного миллиона
человек. Так же как кризисы 1724-1726 и 1786-1787 годов, этот кризис носил по
преимуществу структурный характер и был вызван перераспределением ресурсов
внутри структуры, в данном случае от крестьянства к элите. Так же как в
1786-1787 годах, после кризиса наблюдается уменьшение реальной ренты, то есть
частичная корректировка неадекватного распределения ресурсов. Как и в те
времена, государство, со своей стороны, обращает внимание на бедственное
положение крестьян и принимает некоторые меры в пользу крестьянства – в частности, восстанавливает забытый павловский закон о
трехдневной барщине.
Как и в 1790-х годах, политика государства
в отношении крестьян отчасти объяснялась ролью диффузионного фактора – но в
середине XIX века эта роль стала более значимой. Влияние Европы привело к тому,
что в глазах «западников» (и в глазах монархов) крепостничество превратилось в
позор России. Этот идеологический сдвиг проявился как в программах движения
«декабристов», так и в неуверенных попытках Александра I и Николая I облегчить
положение крестьян. Существенно, однако, что эти попытки долгое время были
бесплодными – то есть сам по себе диффузионный фактор в то время был недостаточным стимулом для
реформ.
В рамках демографически-структурной теории
назревающий конфликт между монархией и элитой объяснялся также и конкуренцией
за ресурсы. Дворянство вело борьбу за ресурсы не только с крестьянством, но и с
государством, и в частности, оно не допускало увеличения прямых налогов на крепостных
крестьян (попытка Сперанского компенсировать уменьшение реального размера этих
налогов закончилась его падением). Государство, стесненное в своих финансовых
возможностях, выходило из положения с помощью повышения косвенных налогов,
увеличения оброков государственных крестьян, а во время войн – путем печатания
бумажных денег. Крымская война вновь поставила вопрос о недостатке средств и о
взрывоопасном положении в тылу армии – о «пороховом погребе под государством».
Как утверждает неомальтузианская теория, Сжатие должно было вызвать попытки
проведения социальных реформ, направленных на облегчение положения народа, и
тенденцию к установлению этатистской монархии.
Логично было бы считать, что Великая реформа была именно такой социальной и
этатистской реформой, естественным образом вписывающейся в контекст
неомальтузианской теории. Однако и в этом случае (как во многих других), мы
видим, что демографический фактор действовал не изолированно, а синхронно с
диффузионным фактором. Вновь усилившийся диффузионный фактор требовал
модернизации России по образцу Европы – то есть отмены крепостного права.
Отмена крепостного права означала
трансформацию структуры – то есть создание новых отношений внутри структуры,
связанное с определенном качественном изменением составляющих ее элементов и
принципов их взаимодействия.
Эта
трансформация проявлялась не только в том, что крепостные крестьяне стали
свободными людьми и рента значительно уменьшилась, но также и в том, что
государство вновь приобрело независимость от элиты. Монархия вышла из состояния
подчиненности и вновь, как при Петре I, стала самодержавной этатистской
монархией.
Таким
образом, в результате совокупного действия факторов крепостное право было
отменено, экологическая ниша крестьянства расширилась, и угроза социального
взрыва на время отступила. Сжатие в рамках одного сословия разрядилось, но
Сжатие в рамках всей России сохранялось.
Оно проявлялось в уменьшении душевых сборов и в крестьянском малоземелье,
которое особенно ощущалось в Центральном районе. Хотя непосредственная угроза
миновала, дальнейший рост населения, согласно теории, должен был привести к
новому кризису.
Суммируя
приведенные материалы о социально-экономическом развитии России в 1860-1904
годах, необходимо, прежде всего, отметить, что уже в начале этого периода
экономика страны находилась в фазе Сжатия. Мы можем констатировать наличие
таких классических признаков Сжатия, как низкий уровень потребления основной массы населения, частые сообщения о
голоде и стихийных бедствиях, крестьянское малоземелье, разорение крестьян,
рост задолженности, уход крестьян в города (в частности, в форме
отходничества), рост городов, бурное развитие ремесел и торговли, дешевизну
рабочей силы, высокие цены на хлеб, высокие цены на землю, большое количество
безработных и нищих, голодные бунты и восстания, активизация народных движений
под лозунгами передела собственности и социальной справедливости.
Т.
Шанин сравнивает ситуацию в России с современной ситуацией в перенаселенных
развивающихся странах[156]. Однако, в отличие от обычной картины Сжатия в странах с частной
земельной собственностью, крестьяне в России не имели собственности на свои
наделы и фактически оставались прикрепленными к земле. Поэтому бедняки не
продавали свою землю и не уходили в города на постоянное жительство, а сдавали
свои наделы в аренду и занимались отходничеством. Это замедляло процесс
разорения бедняков, но в то же время удерживало крестьян в деревне, усугубляя
аграрное перенаселение.
Главным
признаком Сжатия был чрезвычайно низкий, близкий к минимально возможному, уровень
душевого потребления, обусловленный аграрным перенаселением и крестьянским
малоземельем. Но в отличие от классической ситуации стационарной экологической
ниши, когда падение потребления приводит к приостановке роста населения, в
России, несмотря на прогрессирующее малоземелье, численность населения росла.
Этот феномен был связан с расширением экологической ниши, вызванным ростом
урожайности: рост населения в точности соответствовал росту урожайности, причем
потребление оставалось на минимальном уровне. При этом посев для внутреннего
потребления в 1860-1900 годах оставался практически постоянным, то есть
увеличение потребления могло происходить только за счет роста урожайности.
Ситуация была такова, что население страны потребляло сбор с определенной почти
постоянной площади посевов, в то время как с другой части посевов хлеб вывозился.
Эта другая часть посевов по размерам примерно соответствовала посевам на помещичьим
землях, и, несколько упрощая реальную картину, можно представить, что основная
часть хлеба, произведенного на помещичьих землях, вывозилась, в то время как
хлеб, произведенный на крестьянских землях, потреблялся внутри страны. Таким
образом, помещичье землевладение непосредственно
сокращало экологическую нишу этноса.
Роль
вывоза была такова, что хотя душевое производство зерна и картофеля росло и в
1901-1910 годах достигло (в пересчете на зерно) 26 пудов, потребление
оставалось на уровне 19 пудов – уровне минимальной нормы. Правительство
поощряло экспорт, поскольку, с одной стороны, оно находилось под влиянием
помещиков, а с другой стороны, усиленный экспорт способствовал укреплению рубля
и привлечению необходимых для индустриализации иностранных капиталов. Таким
образом, экспорт был обусловлен, во-первых, стремлением помещиков дороже
продать свой хлеб (и хлеб арендаторов), и, во-вторых, этатистскими целями
правительства.
Другим
важным аспектом социального развития, рассматриваемым в рамках
демографически-структурной теории, является динамика элиты. Реформы 1861 года
вызвала обеднение дворянства – то есть Сжатие в элите. Как обычно, Сжатие
привело к фрагментации элиты и появлению оппозиционных группировок; этому
способствовали также и процессы вестернизации, обусловившие формирование нового
социального слоя, интеллигенции. Интеллигенция и оппозиционные фракции дворянства
стали питательной средой для образования прозападных либеральных и радикальных
групп. Одна из этих групп, «народники», попыталась вовлечь в движение народ и
провозгласила лозунг «Земля и воля!» – однако попытка закончилась неудачей
вследствие приверженности народа к традициям и нежелания действовать вместе с
вестернизованными элементами.
После
убийства Александра II началась традиционалистская реакция, и правительство
стало проводить политику «народной монархии», опоры на консервативное
дворянство и «попечения» над крестьянством. В соответствии с теорией
продолжающееся Сжатие побуждало монархию проводить реформы, направленные на
облегчение положения народа – в данном случае, была осуществлена отмена
подушной подати и сокращение выкупных платежей. Однако – также в соответствии с
теорией – Сжатие привело к финансовому кризису, и в министерство Вышнеградского
правительство изменило свою политику, ужесточило сбор налогов и попыталось
получить средства на цели индустриализации посредством увеличения экспорта
хлеба, стабилизации рубля и привлечения иностранного капитала. В рамках
демографически-структурной теории такую политику можно трактовать как давление
государства и элиты на народ с целью перераспределения ресурсов; элита и
государство в своих целях отнимали у народа часть ресурсов, и это принимало
форму широкомасштабного экспорта хлеба (а не повышения оброков и налогов, как
раньше). Пик этого наступления пришелся на 1888-1891 годы и (вместе со
случайными климатическими колебаниями) привел к голоду 1892 года; то есть
кризис 1892 года находит в рамках теории такое же объяснение, как многие
предшествующие кризисы – он был следствием сокращения экологической ниши
народных масс вследствие наступления на народ государства и элиты.
После
голода 1892 года началось «время оскудения»; крестьяне не могли платить налоги,
и министр финансов Витте старался найти выход из финансового кризиса за счет
увеличения косвенного обложения и развития госсектора (в частности, за счет
введения винной монополии и частичной национализации железных дорог). В
соответствие с теорией, развитие госсектора можно трактовать как проявление
порожденных Сжатием этатистских тенденций (но имело место и диффузионное
влияние со стороны Германии). При этом
большие размеры экспорта хлеба сужали экологическую нишу народа и стимулировали
рост социальной напряженности. Сжатие требовало от правительства принятия мер к
облегчению положения народа, но в течение почти двадцати лет – от отмены
подушной подати в 1886 году до сложения недоимок в 1904 году – правительство
отказывалось принимать такие меры. В конечном счете, оно было вынуждено
признать факт оскудения крестьянства центральных областей, и, проведя
достаточно детальное обследование, установило, что причиной оскудения являются
перенаселение и малоземелье – но не успело принять никаких реальных мер к
исправлению ситуации: началась революция.
Еще
одно важное обстоятельство, характеризующее динамику Сжатия – это его
пульсирующий, колебательный характер, связанный с квазипериодическими
климатическими колебаниями, сказывающимися на урожайности. Эти колебания
отчетливо проявляются при анализе пятилетних средних, и их минимумы представляют
собой периоды падения потребления, чреватые обострениями социальных конфликтов.
Необходимо учитывать также значительный разброс в уровне потребления среди
различных групп крестьянства; бывшие государственные крестьяне имели средний
надел, почти вдвое превосходящий средний надел бывших крепостных крестьян.
Поэтому, хотя среднее потребление
сохранялось примерно на уровне минимальной нормы, потребление бывших
государственных крестьян было в среднем выше нормы, а потребление бывших
крепостных крестьян – ниже нормы; в периоды
климатических минимумов положение бывших крепостных крестьян было особенно
тяжелым.
Следует
обратить особое внимание на длительность периода Сжатия – по крайней мере, шесть
десятилетий. В мировой истории известны лишь немногие случаи, когда общество
столь долгое время балансировало на грани голода; воздействие случайных
факторов обычно быстро выводило систему из состояния неустойчивого равновесия.
Относительная стабильность социополитического положения в России объяснялась, в
первую очередь, тем авторитетом, которое приобрело самодержавие после освобождения
крепостных. Этот авторитет сказался во время политического кризиса рубежа
70-80-х годов и во время голода 1892 года. Уменьшение выкупных платежей и
отмена подушной подати показали, что власть отслеживает экономическую ситуацию
и принимает меры к улучшению положения народа. Однако в дальнейшем политика
поддержания крестьянства сменилась политикой индустриализации, положение
крестьянства (в частности, на Черноземье) вновь стало ухудшаться, и авторитет власти постепенно таял.
Другим
фактором сохранения относительной стабильности был внешний мир, отсутствие
больших войн на протяжении полувека. Единственная война, которую вела в этот
период Россия, была популярная в народе война с Турцией за освобождение южных
славян. Победа в этой войне способствовала укреплению авторитета самодержавия,
но внешнеполитическая обстановка постепенно ухудшалась. Появление на западных
рубежах России могущественной Германской империи впервые за полтора столетия
поставило Россию перед лицом превосходящего в военном отношении противника.
Военное
превосходство Германии было проявлением происходившего в Европе процесса модернизации;
в то же время это превосходство было одним из решающих факторов, вынуждавших к
модернизации Россию. Мощное давление диффузионного фактора заставило
правительство перейти к форсированной политике индустриализации, а политика
привлечения средств для индустриализации, в свою очередь, вызвала голод 1892
года. Проблема заключалась в том, что в условиях Сжатия государство не могло
взять необходимые ему ресурсы у народа и не решалось взять их у элиты – это
была описанная в демографически-структурной теории ситуация кризиса государства,
и в данном случае этот кризис стимулировался влиянием технического и
диффузионного факторов – влиянием процесса модернизации.