ГЛАВА III. ВТОРОЙ
РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД ВОСТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА
3.4. Демографически-структурные процессы в 1725-1760-х годах
3.4.1. Кризис 1723-1726 годов и контрреформы
Непомерное увеличение
налогов в процессе трансформации структуры при Петре Великом означало сокращение экологической ниши народа.
Как отмечалось выше, перераспределение ресурсов в пользу государства в ходе
военных реформ не раз приводило к катастрофам – так было при Иване Грозном, и
(в северном регионе) при Алексее Михайловиче. Петровские реформы, в конечном
счете, также привели к кризису. Многолетнее тяжкое налоговое бремя вызвало
истощение запасов хлеба в крестьянских хозяйствах, и с чередой неурожайных лет
(1722-1724 гг.) пришел большой голод. Летом 1723 года из провинций сообщали,
что вследствие неурожая, бывшего два года сряду, крестьяне едят льняное семя и
дубовые желуди, бывают по несколько дней без пищи, многие от того пухнут и умирают,
иные села и деревни стоят пусты...[1]
Полковник Трайден, отправленный в Пошехонье с ревизией, докладывал, что в 1723
году от голода погибла десятая часть местного населения[2].
В таких условиях Петр I решился на крайнюю этатистскую меру: было указано
повсеместно конфисковать излишки хлеба у дворян, купцов и у богатых крестьян,
чтобы раздать голодающим[3].
Вероятно, эта
«продразверстка» отчасти исправила положение – но не до конца: голод
продолжался до самой смерти императора и еще год после нее. Сразу после кончины
Петра Екатерина I уменьшила подушную подать на 4 копейки и сняла с крестьян
повинность по строительству квартир для солдат. Через два месяца Сенат приказал
собиравшим налоги комиссарам умерить жестокость правежей. Генерал-прокурор П.
И. Ягужинский подал императрице доклад, в котором требовал более действенных
мер по облегчению положения крестьян. Крестьяне уже не могли платить, за восемь
месяцев 1725 года недоимка достигла половины окладных сумм. В 12 провинциях
имели место антиналоговые выступления голодающих крестьян[4].
В июне 1726 года в Верховном Тайном Совете был поставлен на обсуждение вопрос,
какие меры нужно принять «ввиду крайнего разорения крестьян». В представленных
по этому поводу «мнениях» ближайшие сподвижники Петра говорили о «великой
скудости крестьян», об их «крайнем всеконечном разорении». Было решено в 1727
году снять третью часть подушной подати и учредить комиссию для учета умерших и
исключения их из оклада[5].
Комиссия,
возглавленная Д. М. Голицыным, стала собирать по губерниям ведомости об убыли населения.
В не полностью сохранившихся материалах комиссии не имеется окончательных
данных по всей стране, но они приводятся в более позднем докладе Сената. В этом
докладе утверждается, что из учтенных в 1719-1724 годах 5,5 млн. душ мужского
пола к 1727 году было 199 тысяч бежавших и 733 тысячи умерших[6].
Беглецы в то время обычно умирали от голода на дорогах, поэтому их можно причислить
к умершим; в этом случае расчеты по таблице смертности Буняковского показывают
превышение над естественной смертностью в 300 тыс. душ обоего пола; 300 тысяч
человек – это было число погибших от голода.
Таким
образом, царствование Петра I завершилось голодом, унесшим сотни тысяч жизней.
Это был уже третий кризис (после кризисов времен Ивана Грозного и Алексея
Михайловича), вызванный различными этапами «военной революции» – в данном
случае созданием петровской регулярной армии и сопутствующим увеличением
налогов. Этот кризис
имел свою специфику, которая выражалась в меньшей роли демографического
фактора. Во времена Ивана Грозного демографический цикл находился в фазе
Сжатия, поэтому в условиях крестьянского малоземелья и продовольственных трудностей
повышение налогов до 3-4 пудов хлеба с души сразу же привело к катастрофе. Во
времена Петра I демографический цикл находился еще в фазе роста, на Юге
продолжался процесс колонизации, у крестьян были свободные земли, и
продовольственная ситуация была более благоприятной. Поэтому, хотя Петр I в
своих налоговых требованиях превзошел Ивана Грозного, кризис не имел столь драматического
характера и не привел к демографической катастрофе.
Необходимо, однако, добавить, что кризис
времен Петра I был обусловлен не только налоговыми требованиями военного
характера. Кризис в значительной степени был ценой строительства Петербурга –
то есть был обусловлен отчасти случайным действием фактора внешних влияний.
Некоторую роль, возможно, играли также изменения климата: отмеченное выше
падение урожайности может быть связано с уменьшением среднегодовой летней
температуры с 17,4° в 1650-80-х годах до 17° в 1680-1740-хх. Однако зимы были,
наоборот, мягкими, а количество экстремальных летних сезонов в 1710-1740-х
годах соответствовало уровню благополучных лет[7].
Таким образом, кризис 1723-1726 годов был порожден в основном налоговым
давлением государства.
В обстановке кризиса
власти были вынуждены принять меры для облегчения тяжести налогов. Подушная
подать в 1727-1732 годах трижды сокращалась на год на одну треть, но в
действительности сокращение было больше, так как подать собиралась с большими
недоимками. В 1728 году была ликвидирована соляная монополия и понижена цена
соли. После смерти Петра, при императрице Екатерине I, у власти находилась
группа ближайших соратников преобразователя, возглавляемая князем А. Д.
Меньшиковым. Но в условиях кризиса, уменьшения налогов и отсутствия средств им
не оставалось ничего иного, как начать демонтаж петровских учреждений. Армия
чиновников, призванная обеспечить «всеобщее благо», была частично распущена –
просто потому, что не было денег для ее содержания. Ряд изданных в 1727 году указов
возвращал областную администрацию к допетровским временам, суд и сбор налогов
были снова поручены воеводам, а дьяки, как и прежде, должны были иметь пропитание
«от дел». Коллегии сохранились, но их штаты были сокращены втрое; осуществлявший
контрольные функции институт прокуроров был уничтожен. В целом расходы на
чиновничество к 1734 году сократились в два раза[8].
Сократились и расходы
на армию. В результате нехватки средств военные не получали установленного
содержания. В январе 1727 года польский посол писал, что флот девять месяцев не
получает ни гроша, а гвардия – около двух лет[9].
В 1727 году было разрешено две трети солдат и офицеров из дворян уволить в
продолжительные (год и более) отпуска без сохранения оплаты; на службе рекомендовалось
оставить лишь тех, у кого не было поместий и кто жил жалованьем. Была создана
Военная комиссия для рассмотрения вопроса о сокращении штатной численности
армии с целью уменьшении подушной подати[10].
Недостаток средств
совмещался с недостатком энергии: новые правители были не в силах (и не хотели)
поддерживать темп государственной деятельности Петра Великого, вникать во все
дела и руководить всем и вся путем бесчисленных указов. Если десятки указов
первой четверти XVIII века предписывали подданным, какого покроя носить одежду,
как строить дома и сооружать барки, как убирать хлеб и лечить больных, то в
дальнейшем такого рода указы почти исчезли[11].
Смерть императора означала вместе с тем прекращение попыток построения
«регулярного полицейского государства» и резкий спад в политике
государственного регулирования.
После смерти
Екатерины I, при юном императоре Петре II, к власти пришла партия старомосковского
боярства во главе с князьями Долгорукими и Голицыными. Это была оппозиция,
которая в свое время поддерживала царевича Алексея, но была вынуждена смириться
из-за страха перед застенками Преображенского приказа. Первым делом новая
власть уничтожила символ петровского террора – Преображенский приказ. Другим
символом петровской политики был Петербург. «Петербург, – говорил князь Д. М.
Голицын, – это часть тела, зараженная антоновым огнем; если ее впору не отнять,
то пропадет все тело»[12].
В феврале 1728 года двор и государственные учреждения переехали из Петербурга в
Москву. Жизнь Петербурга замерла, началось бегство из города дворян, купцов и
мастеровых. Все строительные работы были остановлены, сотни недостроенных домов
постепенно превращались в руины[13].
Но народ радовался решению Петра II. «Русские старого времени находили в нем
государя по душе оттого, что он, выехав из Петербурга, перевел их в Москву, –
свидетельствует К. Манштейн. – Вся Россия до сих пор считает его царствование
самым счастливым временем из последних ста лет. Государство находилось в мире
со своими соседями; служить в войсках никого не принуждали... вся нация была
довольна; радость отражалась на всех лицах... Только армия и флот приходили в
упадок...»[14].
«Теперь больше не подрываются финансы этого государства ненужными постройками
гаваней и домов, – писал прусский посол А. Мардерфельд, – плохо усвоенными мануфактурами
и заводами, слишком обширными и неудобоисполнимыми затеями или пиршествами и
пышностью...»[15]
Итак, через три года
после смерти Петра Великого налоги были уменьшены, Преображенский приказ
уничтожен, Петербург был оставлен, флот сгнил, петровская администрация была, в
основном, распущена, а армейские офицеры большей частью вернулись в свои
деревни. В целом,
смысл перемен заключался в
сокращении непомерных государственных расходов, в частичном перераспределении
ресурсов в обратном направлении, от государства к крестьянству и дворянству, в
уменьшении того давления, которое государство оказывало на другие сословия.
Однако, это было лишь частичное перераспределение, оставившее в
неприкосновенности основные результаты петровских реформ, постоянную регулярную
армию и подушный налог.
3.4.2. Борьба за распределение ресурсов в 1730-х годах
Кризис
поставил под вопрос все результаты произошедшей трансформации структуры, в том
числе и судьбу петровской абсолютной монархии.
После внезапной смерти Петра II власть оказалась в руках Верховного Тайного
совета, состоявшего по большей части из старой знати. Князь Д.М. Голицын
предложил избрать на престол племянницу Петра герцогиню курляндскую Анну
Иоанновну, ограничив ее власть конституционными «кондициями»[16].
В целом этот проект можно рассматривать как продолжение контрреформ, и В.
Кивельсон генетически связывает его с традициями Московского царства, с
Боярской думой, Земскими соборами и теми «кондициями», которые были
представлены в 1610 году королевичу Владиславу[17].
Когда олигархический
замысел «верховников» открылся, то выяснилось, что он противоречит интересам
мелкого дворянства, опасавшегося восстановления привилегий родовой
аристократии. В ситуации 1730 года снова
проявился раскол элиты, столь характерный для эпохи Ивана Грозного и времен
Смуты[18]. В
рамках демографически-структурной теории этот раскол объяснялся борьбой различных
фракций элиты за ресурсы; раскол элиты позволил самодержавию удержать власть.
Вдохновителем опиравшейся на мелкое дворянство монархической партии стал
вице-канцлер А. И. Остерман. Монархисты тоже желали конституции, но они хотели
получить привилегии и «свободы» не от Верховного Тайного Совета, а из рук
императрицы. 25 февраля монархисты подали Анне Иоанновне петицию, в которой
требовали уничтожения уже подписанных императрицей «кондиций», и Анна, воспользовавшись
растерянностью «верховников», объявила о намерении править самодержавно, как ее
предки[19].
Сопротивление старой
знати было подавлено – хотя и не сразу; князья Долгорукие были сосланы, Д. М.
Голицын умер в заключении в Шлиссельбургской крепости. В 1732 году двор покинул
боярскую Москву и вернулся в Петербург.
Для охраны новой власти от недовольных под именем Тайной канцелярии был
восстановлен петровский Преображенский приказ – однако Анна старалась избегать
казней, предпочитая отправлять противников в ссылку. За десять лет было сослано
свыше 20 тысяч человек, причем зачастую ссылали так, что от человека не
оставалось никаких следов, меняли сосланным имена и уничтожали записи о месте
ссылки[20].
Придя к власти, Анна
была вынуждена удовлетворить часть требований поддержавшего ее дворянства. Были
отменены указ о единонаследии и содержавшиеся в этом указе ограничения на продажу
поместий; поместья стали именоваться вотчинами – в юридическом отношении эти
два типа владений уже не различались. В 1731 году был учрежден Шляхетский
кадетский корпус, выпускники которого шли в армию офицерами. В 1738 году срок
службы дворян был ограничен 25 годами, и отцы нескольких сыновей получили право
удерживать одного из них дома для ведения хозяйства. Были несколько облегчены
условия обучения, отныне богатые родители могли обучать своих детей дома – но
по окончании обучения дети должны были сдавать экзамены на общих основаниях.
Однако Анна предпочла забыть о главном требовании петиции 25 февраля – о
выборах членов Сената дворянством[21].
Управлявшая страной
при Анне придворная «немецкая партия» имела чиновный, бюрократический характер,
поэтому она была заинтересована в сохранении этатистского абсолютизма. Для поддержания
сильного государства требовалось поддерживать петровскую систему сбора налогов.
Однако тот уровень налогов, который
был установлен Петром I, отнимал у крестьян все излишки и не позволял дворянам
увеличивать ренту. Борьба за ресурсы стала причиной конфликта между дворянством
и монархией[22].
Важным
фактором, который в соответствии с демографически-структурной теорией, должен
был обострить борьбу за распределение ресурсов, был рост численности
дворянства. По оценке Я. Е. Водарского в 1700
году насчитывалось 22-23 тыс. дворян, владеющих поместьями; к 1737 году их
число увеличилось примерно до 46 тыс.; число владений возросло с 29 тыс. до 63
тыс. (некоторые помещики имели несколько владений). Между тем, вследствие
резкого увеличения налогов и падения уровня жизни, рост населения в указанный
период был медленным и существенно уступал численному росту элиты. Эта
диспропорция привела к значительному уменьшению среднего размера владений (см.
табл. 3.9)
|
|
Все владения |
Крупные владения (более 25 дворов) |
Остальные владения |
||||||
|
Год |
Число владений |
Душ в них (тыс.) |
Душ на 1 владение |
Число владений |
Душ в них (тыс.) |
Душ на 1 владение |
Число владений |
Душ в них (тыс.) |
Душ на 1 владение |
|
1700 |
28534 |
1708 |
60 |
2873 |
915 |
318 |
25661 |
793 |
31 |
|
1737 |
63097 |
2599 |
41 |
5240 |
1412 |
269 |
57857 |
1187 |
21 |
Табл. 3.9. Размеры
владений помещиков в 1700 и 1737 годах[23].
Как показывают данные
табл. 3.9 владения не более 25 дворов составляли около 90 % всех владений.
Средний размер этих владений уменьшился в 1700-1737 годах в полтора раза, с 31
до 21 души мужского пола (без учета дворовых людей). Таким образом, имело место
падение доходов основной массы дворянства. Материалы Герольдмейстерской конторы
этого времени содержат многочисленные упоминания о нищих дворянах, которые
«скитались меж двор», переходили от монастыря к монастырю в поисках пропитания[24].
Естественно,
что дворяне пытались компенсировать падение доходов увеличением ренты. Однако
уровень совокупной ренты, установившийся после петровских реформ был
максимальным для нечерноземных областей – с крестьян нельзя было брать больше,
не доводя их до голода. При этом если сравнивать с
концом XVII века, то нормы барщины и денежного оброка оставалась примерно на
том же уровне, что и прежде, однако все излишки прибавочного продукта,
остающиеся после выплаты оброка, теперь забирало государство. В таких условиях
помещики могли увеличить свою ренту только за счет государственных налогов – и
действительно, вплоть до правления Екатерины II снижение налогов было
постоянным требованием дворянства; это особенно проявилось в наказах дворянских
депутатов в Комиссию 1767 года[25].
Правительство
Бирона-Остермана не собиралось идти на уступки дворянству и снижать подушную
подать. В 1733 году были приняты решительные меры для строгого сбора налогов и
недоимок, которые к тому времени достигли 7 млн. рублей. Еще в 1727 году
правительство поручило помещикам собирать подушную подать со своих крестьян,
одновременно возложив на них ответственность за недоимки. Однако, по
свидетельству Б. Х. Миниха, некоторые помещики, собрав налоги, не отдавали их в
казну, а тратили на свои нужды[26].
В случае непоступления налога землевладельцев садили под караул, а в деревни
посылали «экзекуторские команды», при приближении которых крестьяне в ужасе
разбегались и прятались по лесам. Но тем не менее, помещики отказывались
платить – и пример подавала высшая знать: 111 «знатных персон» должны были в
казну 445 тыс. рублей[27].
От помещиков поступали в Сенат «страшные жалобы» на разорение крестьян от
беспощадного взыскания недоимок – в ответ сенатский указ обвинил владельцев
«душ» в том, что они так отягчают крестьян работой, что у них «не только на
подати государственные, но и на свое годовое пропитание хлеба добыть... времени
не достает»[28].
Обер-прокурор Сената А. С. Маслов выступил с проектом ограничения помещичьих оброков
и барщин, но императрица Анна наложила резолюцию: «Обождать»[29].
Другой сферой борьбы
за ресурсы были косвенные налоги. В 1731 году была восстановлена соляная
пошлина, которая стала давать 600-800 тыс. рублей ежегодного дохода. Однако
появились проблемы с винными откупами. В 1730-х годах значительно расширилось
дворянское винокурение; хотя дворяне могли курить вино лишь для собственного
употребления, они нелегально продавали его и тем самым отнимали у государства
часть доходов от пошлины. В 1741 фактический глава кабинета барон Остерман
предложил резко расширить казенное производство вина за счет сокращения подпольного
винокурения. Остерман утверждал, что дворяне выкуривают больше половины из
производимых в стране 4 млн. ведер вина[30].
Проект Остермана не был принят, но его появление, как и появление проекта
Маслова, свидетельствовали о нарастающем конфликте между дворянством и монархией.
Таким
образом, анализ событий периода правления императрицы Анны с точки зрения
демографически-структурной теории показывает, что это было время ожесточенной
борьбы за ресурсы между абсолютной монархией и элитой. Причинами этой борьбы
был рост численности элиты и то обстоятельство, что перераспределение ресурсов
в пользу государства в ходе петровской трансформации структуры лишило
возможности элиту увеличивать ренту крестьян. Обстоятельства этой борьбы свидетельствуют
о том, что у крестьян отнимали максимум возможного. Столь интенсивный нажим на
крестьянство должен был вызвать неминуемые демографические последствия.
3.4.3. Сжатие в Центральном районе
Перераспределение
ресурсов в пользу государства в ходе петровской трансформации структуры довело
государственные налоги с крестьян до максимального уровня, резко сократив
экологическую нишу народа. Подушная
подать не учитывала размеры крестьянских наделов, и в наиболее густонаселенных
и малоземельных районах доходы крестьян не могли обеспечить уплату подати.
Особенно тяжелое положение сложилось в Московской губернии. «В Московской
губернии... от худой и выпаханной земли никогда хлеб не родится, – писал
управляющий дворцовыми волостями барон Розен, – а в иных местах, хотя и
родится, токмо за тесным разселением той земли надлежащим их участков довольно
не достает, и оттого приходят в нищету...»[31]
Тяжелое положение отмечалось и в других районах Центра, в частности, на
Белоозере, где, по расчетам Л. С. Прокофьевой, уровень потребления был ниже
минимального[32].
По расчетам М. Ф. Прохорова и А.
А. Федулина средняя величина надела в Центральном районе не обеспечивала
пропитания семьи, и «в середине XVIII века вопрос о малоземелье крепостных…
приобретает острый характер»[33].
«Вопрос о земле у крестьян Центрально-промышленного района в то время стоял
очень остро, – отмечает П. К. Алефиренко, – и часть из них в поисках земли
бежала в малоосвоенные уезды Поволжья или Земледельческого района»[34].
Неурожай 1733 года вызвал большой голод и массовое бегство крестьян; в
1732-1735 годах из дворцовых сел Московской губернии бежала почти десятая часть
населения. Правительство снова прибегло к описям хлебных запасов, конфискациям
излишков и раздачам зерна нуждающимся. В 1734 году был издан указ, по которому
помещики и приказчики в годы голода должны были кормить своих крестьян и
снабжать их посевным зерном. В 1742-1743 годах снова пришел большой голод.
Дворцовое ведомство пыталось решить проблему, переселяя крестьян в Воронежскую
губернию, в 1745 году было переселено 14 тыс. человек. Тем не менее, земли не
хватало; седьмая часть дворцовых крестьян Подмосковья не имела ни лошадей, ни
коров[35].
В крестьянских хозяйствах не было запасов зерна, поэтому в неурожайные годы
цены резко возрастали, описывая колебания с периодом около 10 лет – так называемые
циклы Жуглара[36].
Перенаселение
Центрального региона в этот период было в основном относительным, оно было
вызвано увеличением налогов
– при прежних налогах крестьяне еще могли как-то жить, хотя их наделы
постепенно уменьшались. Однако в пределах Центрального района имелись и такие
местности, где надел не мог кормить крестьянина ни при каких налоговых
условиях. В. Н. Татищев полагал, что минимальный надел, обеспечивавший
существование крестьянской семьи, был равен 1 десятине на душу; И. Д.
Ковальченко оценивал размеры такого надела в 1-1,2 десятины на душу[37].
Действительно, при средней продуктивности в 15 пудов с десятины пашни надел в
1-1,2 десятины давал чистый сбор в 15-18 пудов – ту самую норму потребления, о
которой говорилось выше. Между тем, материалы дворцового хозяйства
свидетельствуют, что в Хатунской, Селинской и Гжельской волостях Московской
губернии в 1730-40-х годах на душу приходилось лишь 0,5-0,9 десятин[38].
Таким образом, в отдельных уездах Центра
уже проявлялось абсолютное перенаселение.
Регулярно
повторяющиеся голодовки, а также массовое бегство привели к тому, что население
Владимирской, Ярославской и Нижегородской губерний в 1719-1744 годах
уменьшилось, а население Центрального района в целом осталось на прежнем уровне
(4,5 млн.). Нехватка земли, голод,
остановка роста населения – это были свидетельства наступившего Сжатия, и очевидно, что Сжатие было ускорено повышением
налогов при Петре I. Если в прежние времена
крестьянин-бедняк еще мог как-то прокормиться на душевом наделе в 1 десятину,
то петровские налоги обрекали его на голод. Центральный регион оказался перед
угрозой демографической катастрофы – и, в
соответствии с теорией, ответом
общества стала стихийная перестройка хозяйственной системы, постепенная
переориентация региона на развитие промыслов.
«Петр Великий наложением подати принудил крестьян стараться другими ремеслами
приобретать себе на пропитание и на уплату податей...» – писал князь М. Щербатов[39].
Нехватка земли привела к массовому переводу
крестьян на оброк. «В тех местах, где довольно земли, сходнее держать их на
пашне, – писал известный экономист и агроном П. И. Рычков, – но в таких местах,
где недостаток есть в землях... оброчное содержание крестьян необходимо»[40].
Известно, что в первой половине XIX века имения, где крестьянский надел на душу
был меньше 0,8 десятины, как правило, были оброчными, так как эксплуатация
столь скудных крестьян на барщине была практически невозможна[41].
Действительно, с конца 40-х годов XVIII века Главная дворцовая канцелярия
постепенно ликвидирует барщинное хозяйство и переводит крестьян на денежный
оброк; барщинные земли при этом передаются крестьянам, что несколько улучшает
их положение[42].
Помещики Центрального района также переводят крестьян на оброк; если в
петровские времена основная часть крестьян была на барщине, то к 1780-м годам
62% крестьян шести губерний района находились на оброке[43].
Переход на денежный
оброк дал возможность крестьянам заниматься ремеслами. По некоторым подсчетам,
к 1760-м годам около двух третей крестьянского населения Московского уезда
наряду с сельским хозяйством, занималось домашними промыслами. Крестьяне стали
конкурентами посадских ремесленников и купцов-мануфактуристов, которым традиционно
принадлежало исключительное право заниматься торговлей и ремеслами; помещичьим
крестьянам разрешалось торговать лишь съестными припасами с возов. В конечном
счете, ряд указов, изданных в начале правления Екатерины II, дозволил
крестьянам свободно заниматься ремесленной и промышленной деятельностью[44].
Таким
образом, в соответствии с демографически-структурной теорией, перераспределение
ресурсов в пользу государства в ходе петровской трансформации структуры вызвало
сокращение экологической ниши населения и
преждевременное Сжатие в Центральном районе. Как и предсказывает теория,
Сжатие вызвало массовое развитие ремесел и торговли.
3.4.4. Колонизация Черноземья. «Две России»
Крестьяне промысловых
сел Центра питались покупным хлебом, привозимым из черноземных областей; таким
образом, начала оформляться промышленная специализация Центрального региона и
все ярче проявлялась роль Черноземья как житницы России. Как отмечал П. Б.
Струве, с этого времени появились «две России», различавшиеся в хозяйственном отношении[45]
– старый волго-окский центр Московского царства и новая колонизируемая Россия –
Черноземье.
Мы употребляем
традиционное понятие «Центральный район» для обозначения семи центральных
губерний, Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской,
Тверской и Калужской. Этот район позже, с развитием промышленности, стали
называть также «Центрально-промышленным», чтобы отличать его от
«Центрально-черноземного района», включающего Тульскую, Рязанскую, Курскую,
Орловскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую губернии. В XVIII веке, однако,
перечисленные черноземные губернии еще не составляли центра Российского государства,
а располагались вблизи южной границы – поэтому мы будем называть эти семь
губерний просто «Черноземным районом» или, кратко, «Черноземьем». Поскольку
статистические данные часто относятся не ко всему Черноземному региону, а к
шести его губерниям (без Пензенской) или к четырем губерниям (без Пензенской,
Воронежской и Курской) то мы будем иногда говорить также о шести или о четырех
губерниях Черноземья.
Процесс колонизации
черноземных областей был важнейшим процессом, определявшим экономическую жизнь
России XVIII века. В период с 1678 по 1719 год
население четырех черноземных губерний увеличилось с 0,8 до 2,1 млн. человек –
в основном за счет переселенцев и беглецов из Центрального региона[46].
Население изобильного Черноземья росло гораздо быстрее, чем население
обделенного почвами и климатом, и к тому же перенаселенного Центра, и к концу
столетия Черноземный регион обогнал Центральный по численности населения (рис.
3.2).
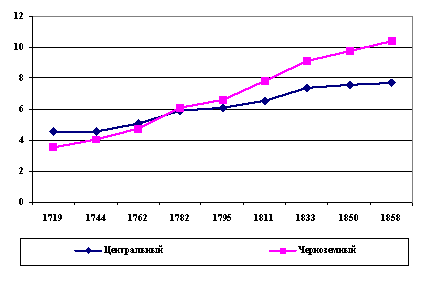
Рис. 3.2. Рост численности населения Центрального и Черноземного
регионов (млн.)[47].
Южные помещики из
числа высшей знати владели обширными пространствами незаселенных земель – и, чтобы
привлечь на них поселенцев, они предоставляли им льготы и укрывали беглых. Посошков
писал, что у знатных землевладельцев на Юге населены беглыми крестьянами «целые
села великие». Князь А. Д. Меньшиков в своих трех огромных вотчинах требовал с
крестьян лишь небольшой оброк: в переводе на хлеб около 2-3 пудов с души[48].
На юге Черноземья, в Воронежской и Курской губерниях такой уровень оброков
сохранялся и в 60-х годах. Крестьяне здесь имели большие наделы, около 2,5
десятин пашни на душу[49].
«Великое число земель и легкая работа дают способ земледельцам великое число
земли запахивать, – писал князь М. Щербатов, – так что во многих местах они четверть
жатвы своей отдают приходящим из Московской губернии за то, что помогают хлеб
их убирать»[50].
О найме работников «немалой платой» говорят и ответы на Сенатскую анкету 1767
года из Тамбовской губернии[51].
Большой
интерес представляют данные о потреблении помещичьих крестьян, полученные М. Ф.
Прохоровым и А. А. Федулиным на основе анализа подворных описей 138 имений (32
тыс. крестьян). Эти данные относятся к середине XVIII века и наиболее
представительны для Центрального района (58 имений) и Черноземного района (50
имений). Авторы берут в качестве нормы потребления с учетом расходов на корм
скоту 3 четверти зерна на душу в год, и получают, что у крестьян Центрального
района не хватало до нормы 3/8 четверти зерна, а у крестьян Черноземья был
излишек в 1/8 четверти. Данные о количестве скота также указывают на то, что
крестьяне Черноземья жили много лучше, чем крестьяне Центра, в частности, на
одного взрослого работника-мужчину на Черноземье приходилось 1,6 лошади, а в
Центре – 1,3 лошади[52].
Необходимо
отметить, что эти данные относятся только к помещичьм крестьянам – положение государственных
крестьян на Черноземье было лучше, чем положение крепостных. Около
половины населения южных губерний составляли однодворцы, которые прежде несли
пограничную службу в драгунских полках, затем в ландмилиции, а после ее
расформирования (в 1780-х годах) превратились в государственных крестьян.
Топографическое описание Курской губернии 1784 года говорит, что средний двор
государственных крестьян имел 5 лошадей, 5 коров и чистый сбор в 300 пудов
хлеба – в 3-4 раза больше, чем нужно для потребления. По ответам на анкету
Вольного экономического общества 1765 года в Острожском уезде Воронежской
губернии у средних крестьян было 5-15 коров, а у зажиточных – 15-50 коров (для
сравнения: во Владимирской губернии на двор приходилась в среднем 1 лошадь и 1
корова)[53].
О жизни тех времен
повествуют рассказы стариков, записанные священником из села Ольшаницы
(Орловская губ.) в 1850 году: «Старики со слезами вспоминают золотой век, когда
предки их жили без нужды и без горя. Денег было мало, и они были почти не
нужны. Продавая за 3 алтына меру пшеницы за 300 или 400 верст, они клали алтыны
в горшки. Из алтынов составлялись у них сотни рублей. Кто имел 100 рублей,
считался богатеем беспримерным. «Не наживи, – говаривали, – 100 рублей, а имей
100 друзей». Пчеловодство, множество хлеба и скота дозволяли варить для себя
мед, пиво, водку и делали стариков роскошными без всякого ущерба для их
состояния. “Поглядел бы, – говорили они, – на тогдашние праздники. То-то ли бы
было! Бывало, выставят на стол меду кисейного, пресного, перегонного, пива, а
вина-то – хоть залейся!”»[54]
Высокий уровень жизни
на Черноземье объяснялся сравнительно высокой урожайностью и легкостью
обработки почв. Попытаемся приблизительно оценить продуктивность десятины
черноземных полей. Во второй половине XVIII века высев ржи составлял около 10
пудов на десятину, высев овса – около 12 пудов. Урожайность в середине столетия
составляла сам-4,6 для ржи и сам-4,2 для овса[55],
и в среднем десятина давала примерно 25 пудов чистого сбора (а в нечерноземных
областях – 15 пудов). Без привлечения наемной силы крестьянин мог обработать (и
обрабатывал в XIX веке) 2,2-2,5 десятины черноземной пашни на душу населения[56].
Следовательно, на одного крестьянина (крестьянку), при условии полной отдачи
сил приходилось 55-62 пуда! Крестьянину же было вполне достаточно 20-25 пудов,
и ему было некуда девать такое количество зерна: ведь везти приходилось за
300-400 верст. Таким образом, становится понятной «Легенда о Золотом веке»,
ходившая среди крестьян Черноземья – а также и то, что в действительности, как
показал Л. В. Милов, крестьяне в те времена не обрабатывали полностью своих
больших наделов[57]:
это было просто ненужно. Становится понятным также и то, какую огромную выгоду
могла принести помещикам организация товарного производства зерна на Черноземье
– если в центральных областях максимальная рента составляла 7-9 пудов с души,
то в черноземных областях она могла составлять 15, 20 и более пудов!
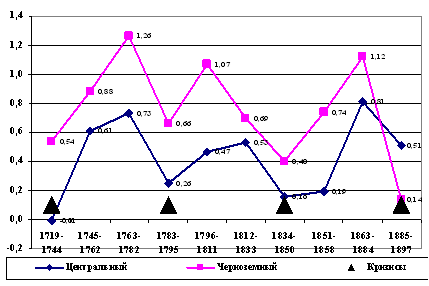
Рис. 3.3. Темпы роста населения по регионам (%)[58].
«Легенда о Золотом веке»
повествует о патриархальных временах, когда на юге еще не было товарного
производства хлеба и барщинных латифундий. В 20-е годы XVIII века общий объем
хлебной торговли оценивался лишь в 2,5 млн. пудов[59]
– это было до начала промышленной специализации Центра, когда промысловые села
стали кормиться хлебом Черноземья. В 30-е годы поставки с юга возросли; они
осуществлялись гужевым транспортом из ближайших к Центру тульских и рязанских
черноземных районов, а также водным путем: в 1737 году в Москву было доставлено
1 млн. пудов зерна из Орловской губернии[60].
По некоторым оценкам в 30-х годах общая масса товарного хлеба (с учетом
винокурения) достигла 10 млн. пудов[61].
Как отмечают И. Д. Ковальченко и Л. В. Милов, в 1740-1750-х годах происходит
формирование Московско-Черноземного регионального хлебного рынка и товарный
оборот хлеба стремительно растет. В 1780-х годах реализация товарного хлеба
лишь по двум черноземным губерниям, Орловской и Курской, оценивается в 24 млн.
пуд.[62].
Очевидно, именно поставками с Юга объясняется наблюдавшееся в это время падение
цен на рожь в Центральном районе: эти цены уменьшились со 110 коп за четверть в
среднем в 1741-1750 годах до 87 коп. в 1751-1760 годах[63].
Налаживание
хлебного снабжения способствовало выходу центральных областей из состояния
Сжатия, в котором они находились на протяжении 1720-1730-х годов.
Вероятно, некоторую роль сыграло и отмечавшееся в это время увеличение
урожайности (см. табл. 3.7). В 1740-1750-х годах население Центра снова стало
расти (рис. 3.3), хотя темпы роста были меньше чем на Юге. Антропометрические
данные говорят о некотором увеличении роста рекрутов, родившихся в 1740-х годах
– то есть об увеличении потребления[64].
Возвращаясь
к анализу социально-экономического развития в 1720-1740-е годы с точки зрения демографически-структурной
теории, нужно отметить, что многие, наблюдающиеся в это время явления подпадают
под определение ситуации перед брейкдауном. Действительно, мы наблюдаем малоземелье
в Центральном регионе, прекращение роста населения, голод и нищету, тяжелое
положение элиты, ее раскол и фрагментацию, ожесточенную борьбу элиты с
государством за ресурсы.
Исходя из
теории, можно сделать вывод, что следствием этой ситуации мог быть
полномасштабный кризис, подобный тому, который произошел в правление Ивана
Грозного – более того, что кризис уже начался в 1724-1726 годах. Однако
дальнейшее развитие кризиса было предотвращено расширением экологической ниши –
колонизацией Черноземья и поставкой хлеба этого региона в центральные губернии
(мы вернемся к этому вопросу ниже). Такое развитие событий стало возможным благодаря
строительству оборонительных линий на юге и общему усилению военной мощи России
– то есть благодаря «военной революции» и мобилизации ресурсов на военные цели.
Вторжение русской армии в Крым в
1735-1739 годах нанесло решающий удар крымским татарам и практически лишило их
возможности производить набеги на южные области России. Таким образом, с одной
стороны, перераспределение ресурсов в пользу государства приблизило Сжатие в
центральных районах, с другой стороны, оно обеспечило колонизацию Черноземья и
предотвратило перерастание Сжатия в экосоциальный кризис.
3.4.5. Отступление государства
Как
отмечалось выше, правление Анны Иоанновны было отмечено ожесточенной борьбой
государства и элиты за перераспределение ресурсов. В конечном счете,
государство потерпело поражение в этой борьбе.
Смерть императрицы Анны вызвала династический кризис и ослабление монархии; в
этой обстановке дворцовый переворот 1741 года завершился падением
бюрократической «немецкой» партии. Бирон, Остерман и Миних были сосланы в
Сибирь. Пришедшая к власти в результате переворота императрица Елизавета
Петровна чувствовала себя неуверенно, и ей пришлось пойти на уступки
дворянству. Сбор податей стал не таким строгим, и помещиков уже не держали под
караулом. Вступление императрицы на престол стало поводом для уменьшения в 1742
и 1743 годах подушной подати на 10 копеек. Подать постоянно собиралась с
недоимками, которые в 50-х годах составляли 7-14% душевого оклада. Эти недоимки
время от времени списывались, в 1752 году были прощены недоимки за 1724-1746
годы на сумму 2,5 млн. руб.[65]
Фактическим главой
правительства императрицы Елизаветы был граф П. И. Шувалов; он проводил линию
на частичную замену подушной подати косвенными налогами – прежде всего,
пошлинами на соль и вино. В 1750 году цена соли была увеличена с 21 до 35 коп.,
а в 1756 году – до 50 коп., и затраты на покупку соли в расчете на ревизскую
душу возросли с 12 до 18 коп. в 1750 году и до 32 коп. в 1756 году. За счет
этих доходов подушная подать была немного уменьшена; в 1750-х годах она составляла
62-67 коп. в год – таким образом, по своей обременительности для крестьян
покупка соли составляла половину от подушной подати. Цены на вино в правление
Елизаветы увеличились вдвое, и, в целом, к 1758 году косвенные налоги превзошли
по своим размерам прямые. Даже когда началась Семилетняя война, Елизавета
Петровна не осмелилась увеличить прямые налоги; война финансировалась за счет
дальнейшего повышения цен на вино и соль – но главным образом за счет огромной
эмиссии медных денег. В 1757-1762 годах было начеканено медных денег на 15 млн.
рублей; это вызвало инфляцию, и в следующие пять лет, в правление Екатерины II,
цена на хлеб возросла в 2 раза [66].
Другой уступкой
дворянству стало поощрение дворянского винокурения. В начале 1720-х годов у
дворян было лишь 40 маленьких винокуренных заводов, а в 1753 году – 280
заводов, и среди них встречались значительные предприятия. Винокурением
занималась в том числе и высшая знать: граф П. М. Апраксин, граф С. А.
Салтыков, граф П. И. Шувалов. Формально дворяне производили хлебное вино по
подрядам казны, но на деле сбывали часть продукции на сторону, что приносило им
огромные доходы. В 1754 году было подсчитано, что на дворянских и купеческих
заводах выкуривается 4 млн. ведер, а из казны продается не более 2 млн. ведер;
при этом Сенат совершенно резонно считал, что оставшееся вино продается тайно.
Однако результат обсуждения был парадоксальным: правительство запретило купцам
заниматься винокурением, и эта самая выгодная отрасль предпринимательства стала
монополией дворян[67].
Еще одним каналом
перераспределения средств в пользу дворянства стала основанная в 1750-х годах
по инициативе Шувалова сеть банков: Государственный заемный банк, Медный банк,
Артиллерийский банк. Идея создания таких банков состояла в том, чтобы помочь
дворянству расплатиться со своими долгами: к тому времени в залоге у
ростовщиков находилось около 100 тыс. дворянских имений. Однако деятельность
банков ограничилась предоставлением огромных ссуд сравнительно немногочисленным
представителям высшей аристократии; вельможи не собирались отдавать свои долги,
и, таким образом, капитал банков был практически расхищен. В 1763 году Медный и
Артиллерийский банки были ликвидированы, их деятельность обошлась казне в 3,2
млн. руб., по большей части присвоенных дворянами[68].
Главным средством
получения денег для удовлетворения потребностей дворянства было увеличение
оброков и барщины. При восшествии на престол Елизавета отказалась принимать
присягу у помещичьих крестьян; присягу за крестьян приносили их помещики – это
говорило о том, что правительство отныне считает крепостных подданными
помещиков и намерено свести к минимуму свое вмешательство в их отношения.
Другим свидетельством ухудшающегося положения крестьян было нарушение принципа
фиксации ренты. Как отмечалось выше, в XVII веке денежная рента оставалась практически
постоянной и составляла около 25 коп. с души. При Петре I принцип фиксированной
ренты сохранял свое действие, о чем говорят, в частности, данные об оброках в
поместьях князя Меньшикова, расположенных в восьми центральных уездах. По нашим
подсчетам, в 1727 году в этих поместьях числилось 20876 душ мужского пола, с
которых полагалось 10560 руб. оброка – то есть в среднем 25 коп. с души обоего
пола[69].
Для 30-40-х годов имеющиеся данные сравнительно немногочисленны, но, тем не
менее, весьма показательны: данные 1742 года говорят о росте ренты примерно до
40 коп. К концу правления Елизаветы оброк крестьян на суздальщине и ярославщине
достигал 67 коп. с души или 5,9 пуда в пересчете на хлеб (см. табл. 3.8). Оброк
с государственных крестьян, составлявший со времен Петра 40 коп. с души
мужского пола, в 1745 году был увеличен до 55 коп. Оброк с дворцовых крестьян,
формально также равнявшийся 40 коп., в 1743-1750 годах составлял в среднем 67
коп. В 1755 году дворцовый оброк вырос до 1 руб. с души мужского пола, а в 1762
году – до 1 руб. 25 коп. Поскольку оброк дворцовых и государственных крестьян
всегда рассматривался как эквивалент тех оброков, которые платят своим хозяевам
помещичьи крестьяне, то его рост был отражением роста ренты в помещичьих
хозяйствах. В 1761 году оброк государственных крестьян был увечен до 1 руб., и
в указе особо отмечалось, что почти все помещичьи крестьяне уже давно платят такой
оброк своим владельцам[70].
В отношении барщины у нас не имеется статистических данных, но характерно, что
в это время появляются помещичьи инструкции, вводящие невиданные ранее нормы
отработок – до 1 десятины в пересчете на душу[71].
Таким
образом, в период правления императрицы Елизаветы элита одержала первые (в
XVIII веке) победы в борьбе за распределение ресурсов в структуре
«государство-элита-народ». Государство было вынуждено уступить дворянству (на
первых порах небольшую) часть прямых и косвенных налогов. Одновременно
дворянство сломало старый принцип фиксированности крестьянской ренты и приступило
к увеличению крестьянских повинностей.