ГЛАВА III. ВТОРОЙ
РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД ВОСТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА
Избрание на царство Михаила
Федоровича было шагом на пути к политической стабильности, но Смута закончилась
не сразу. Первые годы царствования были наполнены восстаниями и войнами; война
с Польшей закончилась только в 1618 году. Россия была вынуждена признать утрату
западных областей, Смоленска и северских городов; западная граница страны
вернулась к рубежам времен Ивана III. Еще более тяжелым было положение на юге;
все южные области были опустошены, татары ежегодно переправлялись через Оку и
иногда доходили до окрестностей Москвы. За время Смуты в полон были выведены
сотни тысяч русских людей, и, принимая московского посла, персидский шах Аббас
выражал удивление, что в Русском государстве еще остались люди[1].
В контексте неомальтузианской
теории наиболее важными представляются демографические последствия катастрофы. Великая Смута нанесла
страшный удар России. Города лежали в развалинах, повсюду виднелись пепелища
деревень. «Вотчины монастырские все до основания разорены, – писали монахи
Иосифо-Волоколамского монастыря, – и крестьянишка с женами и детьми посечены, а
достальные в полон повыведены... все пусто, стоит лес да небо»[2]. Бывшие пашни заросли
лесом, и в некоторых местах крестьяне вернулись к подсечному земледелию – как в
начальные времена Киевской Руси. Судя по данным переписей, в Новгородской земле
численность населения в 1620 году была вдвое меньше, чем в 1582 году и в 10 раз
меньше, чем в 1500 году. В вотчинах Троице-Сергиева монастыря, разбросанных по
всему центральному району, площадь пашни сократилась более чем в 10 раз. В
Московском уезде по данным переписи 1626-1629 годов регулярно обрабатывалось
только 1/8 прежней пашни, остальная часть заросла лесом или использовалась под
перелог[3].
Северная часть страны, Поморье, была меньше затронута бедствиями, чем центральные области. Часть жителей Замосковья бежала от Смуты на Двину и на Вятку, поэтому население отдельных районов Севера в это время не только не уменьшилось, но и возросло. В 1620-х годах новые деревни, починки, составляли почти половину вятских деревень; в Устьянских волостях на Двине в 1646 году запашка была втрое больше, чем до катастрофы 1569-1572 годов. В годы после Смуты площадь пашни на Севере была больше, чем в разоренном Замосковье; Север на некоторое время стал опорным краем Руси[4].
В целом, по переписи 1646 года
население страны составляло 551 тысячу крестьянских и 31 тысячу посадских
дворов[5].
Если принять среднюю населенность двора в 6 человек, то получится 3,5 млн., а с
поправкой на недоучет (который Я. Е. Водарский оценивает в 25%) – 4,5-5 млн. На
1620 год численность населения, была, конечно, меньше; если считать ежегодный
прирост около 1%, то получится 3,5 млн. В 1550-х годах, по оценке А. И.
Копанева, население составляло 9-10 млн.[6], то
есть две демографические катастрофы уменьшили население в 2,5-3 раза.
Каковы были
социальные последствия катастроф? Неомальтузианская теория утверждает, что
экосоциальный кризис нередко порождает
автократию и этатистское государство. Вождь партии, добившейся победы на поле
брани, часто становится военным диктатором и самодержавным монархом; подавив
сопротивление врагов, он железной рукой проводит необходимые реформы.
Соответствует ли этому образу российский кризис XVII века?
Очевидно, не соответствует. В
российской гражданской войне не было победителя, она закончилась компромиссными
выборами нового царя. В
январе 1613 года в Москве собрался Земской Собор; помимо бояр, священников,
дворян и посадских людей в Соборе впервые участвовали выборные от черносошных
крестьян и казаков. Решающее слово в выборах царя оказалось за казаками,
которые едва ли не силой заставили бояр принять кандидатуру 17-летнего Михаила
Романова. «Казаки и чернь не отходили от Кремля, пока дума и земские чины в тот
же день не присягнули царю», – свидетельствует современник[7].
По своей молодости царь не мог выступать в роли самодержца; некоторые историки
полагают, что при вступлении на престол Михаил подписал обязательство,
ограничивающее его власть. Как бы то ни было, первые десять лет своего
царствования Михаил правил совместно с Земским собором, находя в нем совет и
опору. Если прежде царские грамоты заканчивались традиционной формулой: «Царь
приказал и бояре приговорили», то на грамотах Михаила Романова появляется новая
формула: «По царскому указу и земскому приговору»[8].
Характер новой монархии
определялся тем обстоятельством, что она родилась вследствие компромисса между
сословиями. Монархии стоило большого труда примирить дворян и казаков (многие
из которых были восставшими крестьянами и холопами). После воцарения Михаила
многие казаки вернулись к крестьянской жизни и устроились на пашню «по льготе»;
другие поступили на царскую службу. Казаки превратились в многочисленное
военное сословие, они пользовались внутренним самоуправлением, жили в
пограничных крепостях, имели земельные наделы и получали дополнительное
денежное жалованье. Часть казаков (полторы тысячи) получила маленькие поместья,
от одного до трех дворов зависимых крестьян, некоторые стали дворянами[9].
Таким образом, наиболее активная часть крестьянства не только улучшила свое экономическое
положение, но и добилась повышения своего социального статуса. То, что часть
восставших была включена в военные структуры нового государства, несомненно,
свидетельствовало о достижении компромисса
между враждовавшими сословиями.
Возникшая на основе
компромисса новая власть была слабой. Вместо того, чтобы требовать, царь и
Собор просили взаймы деньги у купцов Строгановых[10].
Для содержания ратников освободившего Москву ополчения Земской собор решил
собрать «пятую деньгу» с посадских жителей. Однако во многих городах
отказывались платить сполна и оказывали открытое сопротивление сборщикам. Крестьяне
при попытке властей собрать с них чрезвычайные налоги бросали свои деревни и
уходили туда, где им давали льготы: так случилось, к примеру, в Кирилло-Белозерском
монастыре[11].
«Государевой казны нет нисколько, – говорилось в указе, – кроме таможенных и
кабацких денег государевым деньгам сбору нет»[12].
В 1626 году отсутствие денег заставило правительство уменьшить вес серебряной
копейки, новая монета весила 0,47 грамма, почти
на треть меньше, чем прежде[13].
Таким образом,
вопреки предсказаниям неомальтузианской теории, российский кризис не привел к
укреплению этатистской монархии, скорее наоборот, он привел к ослаблению
государства и монархии. Следует ли отсюда, что теория должна быть отвергнута?
Нет, не следует – нужно напомнить, что выводы этой теории носят вероятностный
характер, она утверждает, что один из исходов более вероятен, чем другие – и
только. Возможность других исходов не отвергается, и можно найти примеры, когда
экосоциальный кризис не приводил к усилению монархии.
Более того, теория
демографических циклов рассматривает цикл в целом, и утверждает, что переход от
слабого государства с частной собственностью на землю к этатистской монархии
вероятен в фазе кризиса, или до него, в фазе Сжатия. И такой переход в
российском цикле XVI века действительно имел место: его завершающие моменты
относятся к правлению Ивана Грозного. Что происходит с этатистской монархией
позже, в период кризиса? Как показывает статистических анализ исследованных
циклов, наиболее частый исход – это завоевание внешними врагами, но встречаются
также случаи, когда восстанавливалась частная собственность на землю и случаи, когда существенных перемен не происходило
– монархия сохранялась[14].
Исход российского цикла (если
учитывать укрепление самодержавия в правление Филарета), нужно отнести,
очевидно, к последнему варианту развития событий. Несмотря на тяжелый кризис,
этатистская монархия устояла, и главным свидетельством этого было сохранение
поместной системы и государственной собственности на землю. Дворяне не стали
собственниками своих земель; они по-прежнему несли государеву службу, то есть
сохранились те отношения, о которых писал Р. Ченслор: «В этой стране нет собственников, но каждый обязан идти [служить] по
требованию государя…»[15]
3.1.2.
Динамика элиты: положение дворянства после Смуты
Демографически-структурная теория
уделяет большое внимание положению элиты и, в частности, вопросу об
обеспеченности элиты материальными средствами. От обеспеченности элиты зависит
тот уровень материальных требований, которые она предъявляет государству и
народу, и отношения внутри структуры «государство-элита-народ». Каково было
положение элиты после Смуты? Конфискации Ивана Грозного и «Смутное время» нанесли
тяжелый удар по боярским родовым вотчинам и по вотчинному землевладению в
целом. В Тверском уезде, например, в 1548 году было 318 вотчин средним размером
370 десятин пашни, в 1620-х годах осталось 197 вотчин, имевших в среднем 137 десятин,
общая площадь вотчинного землевладения сократилась в 4,3 раза. Обширные
когда-то владения так измельчали, что в центральных уездах в среднем на одного
вотчинника приходилось 4,2 крестьянских двора[16].
Поместное землевладение также
испытывало кризис – но не из-за недостатка земли, а из-за недостатка
обрабатывавших ее крестьян. Самое богатое, московское, дворянство, в 1632 году
имело на одно поместье (или вотчину) в среднем 24 крестьянина, включая бобылей.
В других районах положение было гораздо хуже, помещики Шелонской пятины в
1626-1627 годах имели в среднем по 3,8 двора и по 6,2 душ мужского пола на
владение, 35% владений стояли пустыми[17].
Уход крестьян доводил некоторых помещиков до отчаяния. «Государь нас не жалует,
крестьян из-за нас велит выводить, – говорил ливенский помещик Авдей Яковлев, –
нас в заговоре человек пятьсот: кто из-за нас крестьян выводит, у тех мы
вотчины выжжем, а крестьян побьем, и пойдем до другого государя»[18].
Яковлева можно было понять: учитывая, что оброки сократились в 2-3 раза (см.
ниже), доходы помещиков уменьшились примерно в 10 раз. Петр Петрей отмечал, что
первое время после Смуты многие дворяне ходили в лаптях – так же, как и
крестьяне[19].
Как отмечалось выше, в 1580-х годах в списках имелось 80 тыс. воинов, из них 65
тыс. ежегодно выходили на южную границу. По сметному списку 1630 года числилось
27 тыс. служилых дворян, из них лишь 15 тысяч воинов могли нести полевую
службу; остальные сидели в гарнизонах по своим городам[20].
Чтобы как-то поддержать этих служивых, один раз в пять лет им выдавали денежное
жалование. В 1648 году давали по 13 рублей[21];
эта сумма была эквивалентна 130 пудам хлеба, или примерно годовому доходу
крестьянского хозяйства – и только.
Таким образом, хотя численность дворянства
резко сократилась, социально-экономическое равновесие в структуре
«государство-элита-народ» не было восстановлено в полной мере. Доходы дворянства
оставались крайне низкими, и дворянство требовало улучшения своего положения
путем более строгого прикрепления крестьян
к земле – реального введения крепостного права.
Следует отметить, однако, что еще
до введения крепостного права, по мере преодоления хозяйственной разрухи, (и,
может быть, в связи с увеличением «урочных лет») положение дворянства постепенно
улучшалось. В 1646 году в Шелонской пятине
на одно владение приходилось уже 6,8 двора и 22,1 душ мужского пола, а
количество пустых поместий сократилось до 14%. Общая численность служилых
дворян в России увеличилась с 27 тыс. в 1630 году до 39 тыс. человек в 1651
году[22].
Положение высшего слоя элиты,
боярской аристократии, в период Смуты и после нее претерпело существенные
изменения. Дьяк Котошихин, писавший в середине XVII века, свидетельствует, что
к тому времени «прежние большие роды многие без остатку миновались»[23].
Переход на сторону королевича Владислава привел к окончательной утрате
авторитета «старшими боярами», и после коронации Михаила на сцену вышло новое
боярство из среды участников ополчения. Эта новая знать получила от царя
поместья и вотчины, но она была немногочисленна, и ее земельные владения не
могли сравниться с вотчинами бояр XVI века или с владениями екатерининских
вельмож. По росписи 1638 года лишь 14 бояр имели свыше 500 крестьянских дворов,
причем их владения были разбросаны по многим уездам[24].
Новая знать была сильна, главным образом, своим положением на государевой
службе. «Наследственной аристократии, высшего сословия не было, – писал С. М.
Соловьев, – были чины: бояре, окольничие, казначей, думные дьяки...»[25]
3.1.3.
Динамика государства: восстановление налоговой системы
Продолжая анализ взаимоотношений
в структуре «государство-элита–народ», необходимо отметить, что, как отмечалось
выше, Смута привела к ослаблению государственной власти и распаду налоговой
системы. Восстановление управляемости стало первоочередной задачей
государственного строительства. После заключения мира с поляками из плена вернулся патриарх Филарет,
отец царя, который стал фактическим руководителем правительства. Филарет вырос
в эпоху Ивана Грозного и придерживался старых понятий о значении царской
власти. Патриарх получил титул «Великого Государя» и правил как самодержец. С
1622 года перестают собираться Земские Соборы, и понятие «совет всей земли»
исчезает из правительственных документов. «Филарет был ... настолько властным,
что даже сам царь боялся его, – писал архиепископ Пахомий. – Он держал в
повиновении бояр и других царских людей, ссылая их или налагая на них другие
наказания... Он управлял всеми
государственными и военными делами царства»[26].
Филарет энергично
взялся за восстановление налоговой системы. Чтобы наладить сбор налогов,
необходимо было провести перепись земель, подобную тем, которые производились в
XVI веке. Первые же попытки проведения переписи в отдельных районах показали,
что площадь зарегистрированной «живущей» (т. е. регулярно засеваемой) пашни
сократилась в 4, в 10 и более раз. Чтобы уклониться от налогов, крестьяне
указывали в качестве тяглых наделов мизерные участки в одну-две четверти
(четверть – половина десятины). В Шелонской пятине на обжу, которую когда-то
распахивал один крестьянин, теперь приходилось больше 20 дворов; общая сумма
налогов сократилась в 50 раз[27].
Правительство боялось возобновления восстаний, и писцы не смели выявлять утайку
пашен; им было приказано действовать со всяческой осмотрительностью, чтобы
крестьян «не оскорбить»[28].
При таких обстоятельствах в 20-х годах была-таки проведена перепись и назначены
новые налоги: «ямские деньги» и собиравшийся натурой «стрелецкий хлеб». Как и
раньше, окладной единицей служила соха, содержавшая на поместных и вотчинных
землях 800 четвертей «живущей пашни», на монастырских землях в соху клали 600
четвертей, а на черных землях – 500 четвертей. Правительство попыталось
получить необходимые деньги, взимая с мизерных тяглых наделов достаточно
высокие налоги. В конце 20-х годов с сохи брали 400 рублей ямских денег и 100
«юфтей» стрелецкого хлеба (юфть – это четверть ржи плюс четверть овса). В
пересчете на хлеб крестьянский двор, имевший надел в 1-2 четверти на поместных
землях, должен был отдавать в уплату налогов 7-14 пудов ржи и овса, примерно
1,4-2,8 пуда на душу населения. Это была ставка, значительно более высокая, чем
до Смуты, и естественно, что слабая власть не смогла заставить крестьян платить
такие налоги. Характерно, что ходатаями за крестьян выступили дворяне – ведь
высокие налоги уменьшали их ренту[29].
Дворяне засыпали правительство коллективными челобитными; в канун Смоленской
войны коллективная подача челобитных приобрела характер массового политического
движения – и не терпевший пререканий Филарет был вынужден пойти на уступки.
Была ведена новая окладная единица, «живущая четверть», которая заменила
прежнюю реальную четверть «живущей» пашни. В «живущую четверть» на поместных и
вотчинных землях стали класть 8 крестьянских и 4 бобыльских двора или (в других
уездах) 12 крестьянских и 8 бобыльских дворов. Если раньше четверть пашни
(1/800 часть сохи) соответствовала примерно 1 крестьянскому двору, то теперь
«живущая четверть» (тоже 1/800 часть сохи) соответствовала 10 или 16 дворам (два
бобыльских двора считались за один крестьянский). Обложение сохи осталось
прежним, а число дворов в сохе возросло в 10-16 раз – следовательно, налоги со
двора уменьшились более чем в 10 раз! Эта впечатляющая победа дворян
продемонстрировала полное бессилие правительства[30].
Филарету не удалось восстановить самодержавие, и страна продолжала оставаться
ареной борьбы сословий.
|
годы |
стрелецкий
хлеб (юфтей с сохи) |
пудов
на двор |
ямские деньги (руб.
с сохи) |
денег
на двор |
цена
юфти (денег) |
пудов
на двор |
всего
(пудов на двор) |
населенность
двора |
пудов
на душу |
|
1561-62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8 |
|
1631-32 |
100 |
0,1 |
534 |
11 |
160 |
0,67 |
0,8 |
4,8 |
0,16 |
|
1639-40 |
100 |
0,1 |
726 |
15 |
260 |
0,56 |
0,7 |
4,8 |
0,14 |
|
1640-45 |
700 |
0,7 |
784 |
16 |
200 |
0,78 |
1,5 |
4,8 |
0,31 |
|
1646-53 |
700 |
0,7 |
784 |
16 |
200 |
0,78 |
1,5 |
4,8 |
0,31 |
|
1654-62 |
700 |
0,7 |
784 |
16 |
257 |
0,61 |
1,3 |
6,6 |
0,20 |
|
1663-72 |
1400 |
1,4 |
784 |
16 |
350 |
0,45 |
1,8 |
6,6 |
0,28 |
|
1672-79 |
2800 |
2,8 |
784 |
16 |
220 |
0,71 |
3,5 |
6,6 |
0,53 |
|
1680-88 |
|
3 |
|
20 |
120 |
2,23 |
5,2 |
7,5 |
0,70 |
|
1688-96 |
|
5 |
|
20 |
150 |
1,8 |
6,8 |
7,5 |
0,9 |
|
1723-25 |
|
|
|
|
390 |
|
|
|
2,5 |
Табл. 3.1. Основные налоги
поместных и вотчинных крестьян[31].
В сохе условно принимается 10 тысяч дворов.
Уменьшив налоги с поместных земель, власти
были вынуждены сократить и податное обложение монастырей. В «живущую четверть»
на монастырских землях клали 6 крестьянских и 3 бобыльских двора. Поскольку в
монастырской сохе было 600 четвертей, то налоги на монастырских землях были
примерно в 2,3 выше, чем на поместных. Кроме того, во время войн монастырские и
черные крестьяне были обязаны поставлять «даточных» (или «посошных») людей и
платить «ратным людям на жалование»; в отдельные годы это резко увеличивало
тяжесть повинностей. Хуже всего было положение крестьян на черных землях:
«живущая четверть» оставалась здесь реальной четвертью пашни, и обложение
черных крестьян, таким образом, сохранилось на прежнем высоком уровне. Земли центральных
уездов были розданы в поместья, и основные массивы черных земель располагались
на Севере и на Вятке. На черных землях стрелецкий хлеб выплачивался деньгами, и
до начала Смоленской война вятские крестьяне платили примерно 260 денег[32];
по официальным расценкам это составляло около 20 пудов хлеба со двора, или
примерно 4 пуда с души. Это в 10-20 раз больше, чем налоги поместных крестьян,
но при этом, нужно, конечно, учесть, что черные крестьяне не платили оброков помещикам.
В целом, уровень
налогов определялся размерами податей поместных и вотчинных крестьян, которые
составляли основную часть населения страны. В 1670-х годах этот уровень был
низким: в пять-шесть раз ниже, чем во времена Ивана Грозного и Петра I.
Голландский посол Кунрад Кленк писал, что «в мирное время в Московии платится
мало», но в военное время налоги значительно увеличиваются[33].
Таким образом, в соответствии с
неомальтузианской теорией, уровень государственной ренты после катастрофы
оставался низким. Государство
не сумело вернуть утраченные после 1570-х годов ресурсы; оно оставалось слабым,
и это негативным образом отражалось на обороноспособности страны: Россия была вынуждена
платить крымскому хану дань, дипломатично именовавшуюся «поминками».
3.1.4. Динамика перераспределения ресурсов: размеры ренты
Неомальтузианская теория
утверждает, что для периодов восстановления после кризисов характерен низкий
уровень земельной ренты. Попытаемся проверить этот теоретический прогноз на российских
материалах XVII века. Вопрос о размерах барщины в XVII – начале XVIII века
подробно исследован в работах Н. А. Горской, Л. В. Милова, А. Н. Сахарова, Ю.
А. Тихонова и ряда других авторов[34].
Используя приводимые в этих работах данные, можно оценить средние размеры
барщины на протяжении этих столетий (табл. 3.2).
|
Период |
1630-1644 |
1660-1669 |
1680-1700 |
1715-1723 |
|
Размеры барщины |
0,32 |
0,66 |
0,36 |
0,37 |
Таблица. 3.2.
Барщина в поместных и вотчинных хозяйствах в расчете на душу населения (в десятинах)[35].
Сопоставление данных для
различных периодов показывает, что в целом для XVII века барщинные нормы были
примерно в 3 раза ниже, чем во времена расцвета крепостничества в середине XIX
века. Однако общий уровень барщины может быть оценен только в сравнении с
наделами крестьян, со средними размерами крестьянской запашки. Для XVII века
этот важный вопрос остается почти не изученным: проблема заключается в том,
что, уклоняясь от налогов, крестьяне указывали в качестве тяглых наделов
участки земли, намного меньшие, чем действительная запашка[36].
В принципе, земли было более чем достаточно, после демографической катастрофы
население резко уменьшилось, крестьянин мог выбирать лучшие участки и пахать
столько, сколько желает. Нет особых оснований полагать, что производственные
возможности крестьянского хозяйства в XVII веке были меньше, чем в XVI или в
XVIII веках. Как в XVIII, так и в XVII веке землевладелец был готов
предоставить крестьянину ссуду на обзаведение семенами и рабочим скотом: ведь
он был кровно заинтересован в крестьянском труде. Часто упоминаемых в
источниках XVII века «бобылей» нельзя с уверенностью классифицировать как
разорившихся крестьян – во многих случаях это были скорее поселенцы на льготе;
они распахивали перелог и осваивали «пашню, лесом поросшую», земли, заброшенные
в период кризиса[37].
В XVI веке в многоземельной Шелонской пятине новгородчины средний двор в 5-6
человек имел 11-13 десятин пашни[38],
то есть примерно по 2,2 десятины на душу. В конце XVIII века барщинные крестьяне
в центральных уездах обрабатывали в среднем на душу 1,8 десятины пашни, в том
числе 0,5 десятин барской запашки[39].
Эта величина соответствует расчетам С. А. Короленко (1890-е годы) который
показал, что средняя семья в 6 человек могла обработать 10,5 десятин, то есть
1,75 десятины на душу[40].
И. Д. Ковальченко полагал, что в первой половине XIX века крестьяне могли возделывать
максимально 1,8-2 десятины на душу[41].
Относительно XVII века известны лишь немногие случаи, когда удается выяснить
полные размеры крестьянской запашки. На смоленщине (с. Андреевское) в конце
столетия средний крестьянский двор имел 12 десятин пашни; в Старорусском уезде
в 1660-х годах на двор приходилось более 15 десятин[42].
В 1660 году власти Кирилло-Белозерского монастыря попытались установить
реальную величину крестьянской запашки. Обмер проводился монастырской администрацией
с участием самих крестьян, которые, конечно, не допустили бы включения в
перепись земель, лежащих «в пусте». Крестьяне так и не дали довести проверку до
конца, но результаты по 503 дворам показали, что средний надел равнялся 11
десятинам[43].
Средний размер двора на Белоозере составлял 6,8 человека[44],
то есть на душу населения приходилось 1,6 десятин пашни. Этот надел меньше, чем
средняя запашка в XVIII веке, поскольку в те времена оброки и барщина были
существенно меньше, и помещики не заставляли крестьян работать «до седьмого
пота». В Троицко-Гледенском монастыре в конце 1670-х годов землю обрабатывали
половники, и им приходилось трудиться, не покладая рук, – поэтому пашенный
надел был значительно больше: на душу приходилось 1,9 десятин[45].
Опираясь на эти данные, мы можем
считать, что в XVII веке крестьянин был в состоянии обрабатывать в среднем 1,6-1,8
десятин пашни. Приняв эти цифры, мы получим, что в первой половине XVII века
барщина отнимала примерно 1/5 крестьянского труда, в 60-х года – примерно 2/5,
и в конце столетия – немногим более 1/5.
В литературе
часто цитируется инструкция помещика А. И. Безобразова приказчику села Тельчей,
в которой помещик предписывает «крестьянам дать на себя работать на неделе два
дня»[46].
Здесь нужно пояснить, что в селе Тельчей на двор приходилось семь душ мужского
пола, поэтому обязанность одного из мужчин работать 4 дня в неделю не выглядит
обременительной. В действительности в этом селе на душу приходилось 0,36
десятин барской запашки[47],
что соответствует среднему уровню 1680-х годов.
В целом сравнительно небольшие
нормы барщины согласуются с неомальтузианской теорией, утверждающей, что
уровень ренты в XVII веке должен быть ниже, чем в другие столетия. Однако на
протяжении XVII века барщина не оставалась одинаковой, как показывает табл.
3.2, в 1660-х годах имело место значительное, более чем двойное увеличение барщинных
норм. Ю. А. Тихонов объяснял это увеличение барщины закрепощением крестьянства
по Уложению 1649 года[48].
Такое объяснение кажется вполне естественным, но почему же тогда впоследствии,
в 1680-х годах, барщинные нормы уменьшились и практически вернулись к низкому
уровню первой половины столетия? Что это? Последствие крестьянской войны,
которая, в свою очередь, была ответом на рост барщины?
Для объяснения
эволюции барщины естественно привлечь данные о динамике оброка в соответствующий
период. Эволюцию оброка проследить труднее, чем эволюцию барщины, в силу его
многообразного характера. Случаев, когда можно подсчитать стоимость оброка в
деньгах или в зерне, в литературе приводится сравнительно немного. Кроме того,
чтобы установить реальную тяжесть оброка, нужно учесть уровень цен на зерно –
нужно выяснить, сколько хлеба должен продать крестьянин, чтобы заплатить оброк.
Мы пересчитали денежные величины оброка в пуды «хлеба», исходя из того, что
юфть «хлеба» (четверть ржи плюс четверть овса) до 1680 года весила 10 пудов, а
после 1680 года – 13,4 пуда (см. табл. 3.3).
В число оброчных
платежей в XVII веке входила и плата за аренду вненадельных земель. Специфика
используемых источников такова, что не всегда можно установить, включена ли эта
плата в указанную в источнике сумму платежей. Однако, в тех случаях, когда мы
знаем плату за аренду, оказывается, что она, в общем, невелика и не оказывает
существенного влияния на общую динамику оброков[49].
Данные таблицы 3.3
подтверждают предположение о том, что величина оброка в XVII веке была намного
меньше, чем в предыдущее и последующее столетие. Однако если перейти к
рассмотрению динамики оброка на протяжении XVII века, то можно заметить, что
данные об оброках указывают на тенденцию, отличную от эволюции барщины. Если
рассматривать денежный оброк, то оказывается, что на протяжении 1630-1716 годов
он практически не меняется, оставаясь примерно на уровне 25 копеек на душу –
это хорошо видно по приводимым в таблице средним величинам оброка для различных
периодов.
|
|
Уезд, село |
Поместные или монастырские |
Цена
юфти (13,4 пуда), коп. |
Оброк
на душу |
|
|
копеек |
пудов |
||||
|
1540 |
Новгородские пятины |
пом. |
|
|
8-12 |
|
1623 |
Бежецкий Верх. С. Молоково и др. |
мон. |
94 |
8 |
1,1 |
|
1620-30 |
Юрьев-Польский у. Тальшинская в. |
мон. |
94 |
11 |
1,5 |
|
1626 |
Владимирский у. 5 деревень. |
пом. |
94 |
21 |
3,0 |
|
1626 |
Галицкий у. 5 деревень. |
пом. |
94 |
29 |
3,7 |
|
1626 |
Галицкий у. 4 деревни. |
пом. |
94 |
21 |
3,0 |
|
1634 |
Галицкий у. 14 деревень. |
пом. |
174 |
42 |
3,2 |
|
1639 |
Псковский у. Завелицкая
засада (оброк хлебом). |
мон. |
|
|
3,7 |
|
1630-40 |
Коломенский у. 3 деревни. |
пом. |
174 |
15 |
1,2 |
|
1644 |
Вологодский у. С. Оларевский Ключ. |
мон. |
107 |
21 |
2,6 |
|
|
средние 1626-44 |
|
123 |
25 |
2,9 |
|
сер. 60-х гг. |
Уличский у. С. Притыкино |
пом. |
235 |
27 |
1,5 |
|
1660-е |
Зубцовский у. С. Фаустова Гора |
мон. |
235 |
21 |
1,2 |
|
1664 |
Бежецкий у. С. Алабузино |
мон. |
235 |
25 |
1,4 |
|
1667 |
Тверской у. д. Пешки и др. |
пом. |
235 |
34 |
1,9 |
|
1667 |
Рязанский у. С. Киструс и др. |
пом. |
235 |
32 |
1,8 |
|
1670 |
Рязанский у. С. Высоково |
мон. |
235 |
15 |
0,9 |
|
|
средние 1660-1670 |
|
235 |
25 |
1,5 |
|
1679 |
Ржевский у. С. Обобурово |
пом. |
92 |
27 |
3,2 |
|
1683-99 |
Кашинский у. |
мон. |
60 |
17 |
3,8 |
|
1680-е |
Псковский у. Завелицкая засада |
мон. |
60 |
16 |
3,6 |
|
1690-e |
Центральные районы. Оценка Н. А. Горской |
мон. |
75 |
22-32 |
3,8-5,8 |
Табл. 3.3. Оброки в XVII веке (в пересчете на пуды хлеба)[50]. В некоторых случаях населенность двора неизвестна, тогда в соответствии с усредненной оценкой Ю. А. Тихонова[51], она принимается за 4,8 человека для 1620-1648 годах и 6,6 человека для 1649-1679 годов. Такие цифры выделены курсивом.
Здесь нужно отметить,
что это обстоятельство, неизменность земельной ренты в период после Смуты,
отмечалось многими авторами; Н. А. Горская назвала это «принципом
фиксированности ренты»[52].
Однако, если перейти к рассмотрению реальной ренты, исчисленной в пудах хлеба,
то окажется, что рента менялась, причем ее динамика, как это ни странно, прямо
противоположна динамике изменения барщины. В то время как барщина в 1660-х
годах возрастает, оброк уменьшается, а позже, когда барщина уменьшается, оброк
увеличивается. Само по себе уменьшение оброка в 1660-х годах легко объяснимо:
резко возросла цена на хлеб, и поэтому, чтобы заплатить прежнюю сумму в
деньгах, крестьянину нужно было продать меньше хлеба. К 1680 году цена упала –
и оброк увеличился до уровня, превышавшего уровень первой половины столетия.
Таким образом, можно утверждать, что денежный оброк в XVII веке оставался
примерно постоянным, а причина изменения его реальной стоимости заключалась в
изменении хлебных цен. Почему же менялись цены? И не могло ли их изменение повлиять
не только на динамику оброка, но и на динамику барщины?
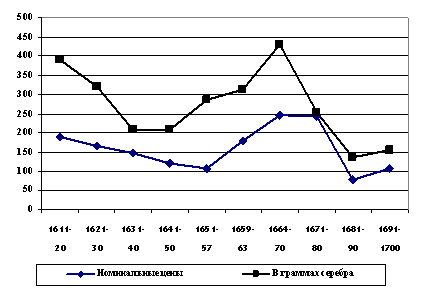
Рис. 3.1. Невзвешенный индекс хлебных цен за 8-пудовую четверть для четырех культур – ржи, овса, ячменя и пшеницы (1701-1710 гг. = 100)[53].
Как известно, в
начале второй польской войны, в 1654 году, правительство в целях оплаты военных
расходов прибегло к выпуску медной монеты с номинальным курсом. За пять лет
(1656-1661 гг.) этой монеты было выпущено на колоссальную сумму в 20 млн.
рублей – и естественно, началась инфляция. Обычная цена четверти ржи в Вологде
составляла около 45 копеек; к осени 1661 года цена выросла до 2,5 рублей, в
январе 1663 года четверть ржи стоила 24 рубля (!). Уже с 1660 года крестьяне во
многих районах отказывались продавать хлеб на медь. Хлебная торговля была
полностью парализована; в 1654-1656 годах в Великом Устюге продавалось в
среднем 4 тыс. четвертей ржи – в 1661 году было продано 20 четвертей! Дворяне в
войсках уже не могли купить хлеб, как прежде, на деньги, которые им платило
правительство, они были вынуждены брать в поход запасы своего хлеба, а чтобы
получать этот хлеб, нужно было увеличивать крестьянскую барщину. Сам царь
Алексей Михайлович завел в подмосковных деревнях крупное барщинное хозяйство,
чтобы обеспечивать хлебом своих стремянных стрельцов. Росла барщина и в
старинных дворцовых хозяйствах, например, в селе Черкизово Коломенского уезда
она к 1662 году увеличилась более чем вдвое; имеются данные о таком же
увеличении барщины в ряде помещичьих сел. Характерно, что в упомянутых случаях
увеличение барщины не привело к уменьшению других повинностей[54].
Таким образом, резкое
увеличение барщины было обусловлено экономической необходимостью, прекращением хлебной
торговли. Однако это увеличение стало возможным лишь в условиях прикрепления
крестьян, когда им трудно было ответить на рост эксплуатации уходом из
поместья. В 1663 году правительство отменило медные деньги, и в обращение снова
поступила устойчивая серебряная валюта. Торговля хлебом возобновилась, но цены
не вернулись к прежнему, довоенному, уровню; в течение 1660-х годов они
оставались на уровне, вдвое превосходящем довоенный. Причиной этого повышения
цен была нехватка хлеба на рынке. Крестьяне вели натуральное хозяйство и
вывозили зерно на продажу, в основном, для того, чтобы заплатить оброк или
государственные налоги. До 1662 года главный налог, «стрелецкий хлеб»,
собирался с государственных («черных») крестьян деньгами, но с 1662 года его
брали хлебом, что привело к резкому сокращению поставки зерна на рынок и к повышению
цен. Как отмечалось выше, в начале войны в Устюге продавалось по 4 тысячи
четвертей в год, а в 1663-1668 годах – только по одной тысяче четвертей.
Естественно, что в условиях высоких хлебных цен помещики продолжали развивать
барщинное хозяйство. В 1668-1672 годах власти собирали налоги иногда хлебом,
иногда деньгами, а с 1673 года окончательно вернулись к сбору деньгами. С этого
времени поставка хлеба на рынок увеличилась, в 1673-1677 годах в Устюге
продавалось в среднем 3 тысячи четвертей; цены стали быстро падать и к 1680
году снизились до уровня 1640-х годов. После 1680 года падение цен
продолжалось, по-видимому, вследствие поступления на рынки центральных районов
большого количества зерна из осваиваемых южных областей[55].
Когда цены упали в три раза, рентабельность барщинного хозяйства резко
снизилась – поэтому многие помещики сократили запашку и стали покупать хлеб на
рынке.
Таково, по нашему мнению,
экономическое объяснение динамики барщины в XVII веке. Эти соображения могут
оказаться полезными и при изучении причин восстания Степана Разина. Рост барщины,
естественно, вызвал протест крестьян, ярко проявившийся в восстании 1670-1671
годов. Это восстание в сочетании с падением цен привело к уменьшению барщины в
1680-х годах.
Что же касается
государственных налогов, то, как видно из табл. 3.1, в 1620-1680 годах их
уровень существенно вырос и достиг полпуда с души. Однако это были далеко не те
налоги, которые собирали при Иване Грозном и Петре I: в 1707-1716 годах налог
составлял около 4 пудов с души.
Таким образом, в соответствии с
положениями неомальтузианской теории, уровень податей и повинностей в период
после Смуты был очень низким, в несколько раз более низким, чем в другие эпохи.
3.1.5. Динамика народа: уровень жизни в XVII веке
Теория демографических циклов
утверждает, что период восстановления должен характеризоваться не только низким
уровнем ренты, но и сравнительно высоким уровнем жизни населения. Справедлив ли
этот прогноз в отношении России XVII века?
Оценка уровня жизни крестьян
сталкивается с недостаточностью конкретных материалов в источниках, и этот
недостаток можно в определенной степени компенсировать лишь условным расчетом.
Зная уровень оброков и налогов, можно сопоставить их с возможностями
крестьянского хозяйства. Попытаемся сначала оценить продуктивность десятины[56].
На озимом поле обычно сеяли рожь, на яровом – овес (с небольшими добавлениями
других культур) при этом нормы высева колебались в зависимости от качества
земли, на хороших землях высевали меньше, на плохих больше; мы будем использовать
стандартные нормы высева, применявшиеся до 1735 года в дворцовом хозяйстве, а
именно, 9 пудов на десятину для ржи и 12 пудов для овса[57].
По данным Е. И. Индовой[58]
средняя урожайность ржи во второй половине XVII века была сам-3,3, а овса
сам-3,1, таким образом, чистый сбор с десятины составлял 21 пуд ржи или 25
пудов овса, учитывая, что раз в три года десятина оставалась под паром,
получим, что средняя продуктивность десятины составляла 15,3 пуда хлеба в год.
Как отмечалось выше, крестьянин мог пахать 1,6-1,8 десятины на душу, поэтому
чистый сбор на душу мог составить 24,5-27,5 пудов.
Таковы были теоретические
возможности среднего крестьянского хозяйства, если же в действительности
крестьянин пахал меньше, но это означало, что он не нуждался в таком количестве
хлеба. После вычета 3,5-4,5 пудов оброка и
налога у крестьянина, использующего свои возможности, оставалось на потребление
20-24 пуда. Считается, что минимальная норма потребления – это примерно 15
пудов, в случае нехватки сенокосов требуется еще примерно 3 пуда на корм скоту
и норма повышается до 18 пудов[59].
Однако в те времена сенокосов хватало, и можно считать, что в среднем крестьянском
хозяйстве мог существовать ежегодный излишек хлеба в 5-9 пудов на душу.
Барщинные крестьяне не платили оброк, но пахали на помещика около 0,4 десятины
на душу; следовательно, они могли пахать на себя 1,2-1,4 десятины, и собирать с
них 18,5-21,5 пудов хлеба. После вычета налогов у них оставалось на потребление
18-21 пуд хлеба на душу населения.
Конечно,
этот расчет является сугубо ориентировочным и приблизительным, мы не учитываем
некоторых второстепенных расходов крестьянского хозяйства, например, покупки
соли, платы приказчикам и мирских сборов. Но с другой стороны, не учитываются и
доходы от скотоводства, леса, рыбных ловель, которые, вероятно, компенсируют
эти расходы.
Таким образом,
имеются основания полагать, что крестьяне XVII века жили довольно зажиточно.
Это подтверждается имеющимися статистическими сведениями по отдельным районам.
А. Х. Горфункель, изучавший хозяйственную жизнь Кирилло-Белозерского монастыря,
назвал время после Смуты «золотым веком» монастырского крестьянства[60].
По подсчетам П. А. Колесникова средний сбор на душу населения в 1620-е годы в
Тотемском уезде составлял 28-32 пуда[61].
По некоторым данным, в 1680-90-х
годах в монастырских селах центральных уездов обычное хозяйство имело от 2 до 5
лошадей, у помещичьих крестьян в среднем было 2,2-2,6 лошади, 1-2 коровы[62].
В Старорусском уезде в 1660-х годах на двор приходилось 2-3 лошади, 4-5 коров[63].
В вотчинах Псково-Печерского монастыря в 1639 году средний двор при
населенности 5-6 человек имел 3-4 лошади, 4 коровы[64].
Даже крестьяне, бежавшие в 1660-х годах из центральных районов на Юг,
оказывается, отнюдь не были бедняками: они имели на двор в среднем по 3 лошади
и 2 коровы[65].
Эти данные
согласуются с впечатлениями западных путешественников: Олеарий свидетельствует
о «громадном изобилии хлеба и пастбищ», о больших пространствах свободных
плодородных земель, о том, что в России редко приходится слышать о дороговизне[66].
Как видно из рис. 3.1, индекс хлебных цен (в особенности цен в серебре) резко
упал сразу же по окончании Смуты и продолжал падать до середины столетия.
Подъем цен в 1657-1670-х годах был связан с войной и инфляционной политикой
правительства, а затем цены снова упали, причем их реальный уровень в конце
столетия был ниже, чем в 1630-х годах – это говорит о том, что посевные
площади росли быстрее, чем население. Много повидавший Юрий Крижанич писал, что на Руси «крестьянам...
живется намного лучше, нежели во многих местах Греческой, Испанской и других
подобных земель, в которых кое-где мясо, а кое-где рыба слишком дороги, а дрова
продаются на вес... Ни в одном королевстве простые черные люди не
живут так хорошо и
нигде не имеют таких прав, как здесь»[67].
В литературе, однако, высказывались и другие мнения по поводу уровня жизни крестьян. Так Л. Г. Дубинская утверждала, что средняя запашка крестьян Мещерского края составляла лишь 3,2 десятины, и, опираясь на эти данные, пришла к выводу, что «в среднем крестьянское хозяйство могло прокормить только половину семьи»[68]. Тем не менее, крестьяне как-то выживали – очевидно, за счет не учтенного в подсчетах Л. Г. Дубинской вненадельного землепользования. Пример с обмером земель на Белоозере показывает, что даже очень крупный и сильный землевладелец подчас не мог выявить скрытую пашню и заставить крестьян платить за нее. Обмер земель производила обычно сама община, и о том, как крестьяне меряли землю, можно судить по эпизоду с обмером наделов в Солодчинском монастыре. При проверке в 1690 году оказалась, что мерная веревка была намного длиннее положенной, а площадь, которую крестьяне выдавали за десятину, составляла почти три десятины[69]. Кроме того, пашню на перелоге учесть было практически невозможно, сегодня она была в одном месте, на следующий год – в другом, и ее размеры постоянно менялись.
Наши суждения об уровне жизни населения
становятся на более твердую почву при привлечении данных о заработной плате
работников, в том числе о заработках деревенских батраков. Запросы поденщиков в
1630-х годах были столь велики, что монахи Иосифо-Волоколамского монастыря не
могли подрядить крестьян для обработки своей пашни. «Люди стали огурливы, в
слободу посылаем для жнецов нанять, и нихто из нойму не идет, не страшатся
никово», – жаловались монахи[70].
Не шли работные люди и на Тульские заводы – так что правительству пришлось
обязать крестьян соседних деревень поставлять подсобных рабочих в порядке
отработочной повинности[71].
Р. Хелли собрал большое число
данные о заработной плате неквалифицированных рабочих в 1635-1725 годах.
Большинство этих данных, однако, относятся к олонецким медеплавильным заводам и
к короткому промежутку 1669-1674 гг. Если исключить весьма специфические
олонецкие данные, то окажется, что средняя поденная плата на протяжении
столетия составляла 5 копеек (10 денег)[72].
Р. Хелли определяет среднюю цену ржи в этот период в 58 коп. за четверть[73],
не учитывая изменения размеров четверти, которая в 1678 году была увеличена с 6
до 8 пудов. Поскольку медианная цена Р. Хелли учитывает экстремально высокие
цены периода медной инфляции (и высокие цены Поморья), то она представляется
существенно завышенной, тем не менее, приняв эту цену, мы получим, что хлебный
эквивалент поденной платы составлял от 8,5 кг (при 6-пудовой четверти) до 11,3
кг (при 8-пудовой четверти) ржи.
Р. Хелли
попытался оценить уровень потребления в XVII веке путем сравнения с
потреблением в другие периоды, в частности с потреблением московских
рабочих-текстильщиков в 1880-х годах, с потреблением иностранных специалистов в
1931-1932 годах, с потреблением в лагерях НКВД и в армии в 1941 году и средним
потреблением в 1993 году[74].
При сравнении с 1880-ми годами американский исследователь берет таблицу
потреблявшихся в то время рабочими продуктов[75]
и вычисляет их стоимость в ценах XVII века.
Общая
стоимость рациона текстильщиков в ценах XVII века по Р. Хелли составляет 4,8
коп., что примерно равно величине средней поденной платы (в то время как в
1880-х годах у текстильщиков уходило на питание 37,6% от поденной платы[76]).
«Или по крайней мере некоторые из этих таблиц и данных, на которых основаны
расчеты, являются неправильными, либо жизнь, должно быть, была необычно трудна
в Московии», – делает вывод Р. Хелли[77].
Действительно, можно отметить некоторые неточности в этой таблице (табл. 3.4).
Во-первых, Р. Хелли исходит из веса булки хлеба в 800 г при средней цене 3
коп., в то время как стандартного веса тогда не существовало; к примеру, в
одном документе 1624 года упоминается «хлеб», стоивший 3 коп. и весивший 9,5
гривенок[78],
то есть около 4 кг. Во-вторых, как отмечает сам Р. Хелли, большинство работников,
о заработной плате которых он приводит сведения, были крестьянами; если же они
жили в городе, то имели свои дома и приусадебные хозяйства[79].
Работники XVII века, в отличие от фабричных рабочих, не покупали печеный хлеб,
муку и крупу в лавке, они сами мололи зерно и пекли хлеб в своих домашних
печах. При цене 6-пудовой четверти в 58 коп. и при известных нормах помола и
припека[80]
913 г хлеба домашней выпечки обходились не в 3,4 коп, а в 0,46 коп.; если же
четверть считать 8-пудовой, то в 0,34 коп. Учитывая домашнюю выпечку и помол, мы
получим общие затраты на питание работника в пределах 1,17-1,35 коп., то есть
23-27% от средней поденной платы в 5 коп (см. табл. 3.4).
|
Потребляемые продукты |
Количество (грамм) |
Стоимость по Р. Хелли (коп.) |
Скорректированная стоимость при размерах
четверти |
С учетом приусадебного хозяйства |
||
|
8 пуд. |
6 пуд. |
8 пуд. |
6 пудов |
|||
|
Хлеб |
913,5 |
3,4200 |
0,3452 |
0,4602 |
0,3452 |
0,4602 |
|
Мука |
21,3 |
0,0240 |
0,0121 |
0,0161 |
0,0121 |
0,0161 |
|
Крупа |
264,1 |
0,3000 |
0,1497 |
0,1996 |
0,1497 |
0,1996 |
|
Горох |
7,18 |
0,0058 |
0,0058 |
0,0058 |
0,0058 |
0,0058 |
|
Макароны |
11 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
|
Картофель с
заменой на хлеб 5: 1 |
58,18 |
0,2200 |
0,0051 |
0,0069 |
0,0051 |
0,0069 |
|
Капуста |
243,1 |
0,0590 |
0,0590 |
0,0590 |
|
|
|
Огурцы |
9,32 |
0,0056 |
0,0056 |
0,0056 |
|
|
|
Грибы |
1,13 |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
|
|
|
Масло постное |
32,75 |
0,2100 |
0,2100 |
0,2100 |
|
|
|
Сахар или мед |
0,62 |
0,0023 |
0,0023 |
0,0023 |
0,0023 |
0,0023 |
|
Чай |
1,3 |
0,1000 |
|
|
|
|
|
Солод для кваса |
39,5 |
0,0290 |
0,0290 |
0,0290 |
0,0290 |
0,0290 |
|
Ржаная мука для кваса |
39,5 |
0,0270 |
0,0224 |
0,0298 |
0,0224 |
0,0298 |
|
Говядина |
88,77 |
0,1100 |
0,1100 |
0,1100 |
|
|
|
Другое мясо |
9,15 |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
|
|
|
Рыба |
12,22 |
0,0180 |
0,0180 |
0,0180 |
0,0180 |
0,0180 |
|
Масло коровье |
2,8 |
0,0170 |
0,0170 |
0,0170 |
|
|
|
Сало |
24,96 |
0,1200 |
0,1200 |
0,1200 |
|
|
|
Молоко |
0,51 |
0,0003 |
0,0003 |
0,0003 |
|
|
|
Творог |
17,1 |
0,0160 |
0,0160 |
0,0160 |
|
|
|
Соль |
24,5 |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
|
Всего |
|
4,7291 |
1,1725 |
1,3507 |
0,6047 |
0,7828 |
Табл. 3.4. Рацион московских
текстильщиков-мужчин 1880-1885 гг. в переводе на цены XVII века[81].
Однако можно внести и дальнейшие коррективы в
эти расчеты. Как отмечалось выше, работники XVII века имели свое хозяйство, и,
как правило, они не покупали на рынке овощи, молочные и мясные продукты. Если
вычеркнуть эти продукты из таблицы Р. Хелли, то стоимость рациона сократиться
до 0,6-0,78 коп. – 12-15% от поденной платы. С другой стороны, фабричные
рабочие 1880-х годов были вынуждены оплачивать жилье, покупать одежду, обувь и
платить налоги, намного большие, чем в XVII веке. У петербургских рабочих в
1907-1908 годах на жилище уходило 15% дохода, на одежду и обувь – 14%, на баню
и стирку – 4%[82].
Если вычесть эти расходы из зарплаты, то стоимость рациона по отношению к
оставшейся сумме составит не 37%, а 55%. Но надо еще учесть, что рабочие 1880-х
годов были преимущественно крестьнами-отходниками, и им приходилось платить
выкупные платежи за землю, помогать родным в деревне и время от времени совершать
поездки на родину, требовавшие существенных затрат. Эти обстоятельства до
крайности затрудняют расчеты, и, как нам представляется, сравнение уровня жизни
работников XVII века и фабричных рабочих 1880-х годов невозможно в принципе
ввиду несопоставимости условий жизни. В этом смысле более перспективно
сравнение с более близкими временами и использование классической методологии
перевода денежной заработной платы в зерно.
Практически повсюду в Европе поденная плата в
начале второго европейского демографического цикла (в начале XVI века) в
пересчете на хлеб составляла 9-12 кг, а в конце столетия (и в конце цикла) –
3,5-4,5 кг[83].
Таким образом, российский уровень поденной платы соответствовал обычному уровню
начала демографического цикла и был относительно высоким.
|
Годы |
Район |
Выполняемые работы |
Плата в деньгах |
Цена юфти (денег) |
Плата в кг хлеба |
|
1640 |
Подмосковье |
расчистка леса |
12 |
200 |
9,6 |
|
1641 |
Подмосковье |
Жатва |
8 |
200 |
6,4 |
|
1642 |
Подмосковье |
Молотьба |
11 |
200 |
8,8 |
|
1640-е |
Подмосковье |
Косцы |
20 |
200 |
16 |
|
1640-е |
Москва |
чернорабочие |
11 |
200 |
8,8 |
|
1646 |
Архангельск |
каменщик |
10 |
200 |
8 |
|
1647 |
Тульские заводы |
чернорабочий |
10 |
200 |
8 |
|
сер.
XVII в. |
Москва |
каменщик |
12 |
200 |
8,0-9,6 |
|
сер.
XVII в. |
Москва |
портной |
10 |
200 |
8 |
|
сер.
XVII в. |
Москва |
плотник |
10 |
200 |
8 |
|
Средние сер. XVII в. |
|
|
|
|
9,1 |
|
1666-70 |
Подмосковье |
Косцы |
12 |
350 |
5,5 |
|
1666-70 |
Подмосковье |
расчистка леса |
14 |
350 |
6,4 |
|
1669 |
Измайлово |
чернорабочие на строительстве |
15 |
350 |
6,9 |
|
1677 |
Подмосковье |
расчистка прудов |
10 |
220 |
7,3 |
|
1670-е |
Подмосковье |
носильщик в каменоломнях |
6 |
220 |
4,4 |
|
Средние 1660-70-е гг. |
|
|
|
|
6,1 |
|
1690 |
Тульские заводы |
чернорабочие |
10 |
150 |
14,2 |
|
1690-е |
Москва |
чернорабочие |
10 |
150 |
14,2 |
|
1698-99 |
Подмосковье |
Косцы |
13 |
150 |
18,6 |
|
кон.
XVII в. |
Москва |
портной |
10 |
150 |
14,2 |
|
кон.
XVII в. |
Москва |
каменщик |
8 |
150 |
11,4 |
|
кон.
XVII в. |
Москва |
плотник |
10 |
150 |
14,2 |
|
Средние кон. XVII в. |
|
|
|
|
14,5 |
Табл. 3.5. Поденная
плата рабочих в XVII веке[84].
Данные Р. Хелли не дают
представления о динамике реальной заработной платы. Данных, когда заработную
плату можно сопоставить с ценами на зерно, не так много; в таблице 3.5
приведены некоторые из них.
Как видно из этой таблицы, в
середине XVII века поденная плата составляла около 10 кг хлеба, затем в период
инфляции и во время последующего периода высоких цен (1654-1679 гг.) она уменьшилась
примерно до 6 кг, но с последующим падением цен в конце XVII века заработная
плата увеличилась до 14 кг. В 1674 году пуд говядины стоил 56 денег[85]
и чернорабочий на дневную плату в 15 денег мог купить примерно 4 кг мяса –
притом, что 1674 год – это было далеко не лучшее для страны время.
Таким образом, подтверждается
теоретический прогноз неомальтузианской теории, о том, что в период восстановления
после кризиса уровень жизни населения был относительно высоким.
3.1.6. Начало
колонизации Черноземья
Итак, состояние России после
Великой смуты было подобно состоянию Европы после кризиса XIV века: обширные
пространства запустевших земель, разоренные полувымершие города, государство,
которое требуется вновь восстанавливать – но вместе с тем изобилие земли,
лесов, природных богатств, которые достались в наследство уцелевшим. Подобно
американским фермерам крестьяне могли вновь осваивать свою страну, могли
пахать, сколько захочется, и ни помещики, ни слабое государство пока не
осмеливались притеснять их, опасаясь нового восстания. В соответствии с неомальтузианской
теорией, за периодом экосоциального кризиса должен был последовать период
восстановления. Постепенно крестьяне стали возвращаться в свои родные места,
основывать новые деревни и расчищать лес под пашню. Московское государство
постепенно «пополнялось» и «приходило в достоинство», и люди за «многое время
тишины и покоя», по выражению источника, «в животах своих пополнились гораздо»[86].
В Замосковном крае восстановление было очень быстрым: бежавшее на Север или в
Поволжье население возвращалось в окрестности столицы, и уже 1640-х годах здесь
восстановился существовавший до Смуты уровень населения. Однако если сравнивать
с первой половиной XVI века, то население далеко не достигало прежнего уровня.
На новгородчине численность населения в 1646 году была в четыре раза меньше,
чем в 1500 году. Медленно восстанавливались города: в середине XVII века население
городских посадов оставалась в 2,5 раза меньше, чем столетие назад. В целом,
как отмечалось выше, численность населения в 1646 году оценивается в 4,5-5 млн.
В 1550-х годах, по оценке А. И. Копанева население составляло 9-10 млн[87].
В 1646-1678
годах численность населения (без учета территориальных приращений) возросла с
4,5-5 до 8,6 млн. На новгородчине в этот период население увеличилось более чем
в два раза (но все еще оставалось на треть меньше, чем в 1500 году)[88]. Огромную
роль в процессе восстановления экономики сыграло строительство 800-километровой
«Белгородской черты», которая должна была защитить южные области от татарских
набегов и обеспечить возможность земледельческого освоения обширных территорий.
Строительство укрепленной линии продолжалось 12 лет (1635-1646 гг.), на «черте»
было построено 23 города-крепости, несколько десятков острогов, пять больших
земляных валов, протяженностью по 25-30 км каждый. В 1648-1654 годах была
создана Симбирская черта, продолжившая укрепленную линию до берега Волги.
В 1642-1648 годах в
уездах, расположенных вдоль Белгородской черты, большинство крестьян было
отписано на государя и зачислено во вновь созданные драгунские полки. Крестьяне
были освобождены от податей, они жили в своих деревнях, пахали землю, и раз в
неделю проходили военное обучение. Казна обеспечивала драгун оружием, и они
должны были нести на «черте» сторожевую службу[89].
Нехватка солдат заставляла зачислять в полки всех желающих, даже беглецов из
центральных районов[90]
– поэтому сюда держали путь многие беглые. Белгородчина была изобильным краем:
урожайность ржи на юге была в 2-3 раза выше, чем в центральных районах, и
запасы хлеба в хозяйствах служилых людей в среднем (по 45 известным описям)
составляли около 500 пудов (на год человеку хватало 15 пудов)[91].
В 1639-42 годах власти предлагали платить за работу на жатве 7-10 денег в день,
что в пересчете на зерно составляет 14-20 кг. Это была щедрая плата, в два раза
больше, чем платили в Подмосковье – однако зажиточные крестьяне юга не желали
работать и за эту плату[92].
Если бы не постоянные войны и татарские набеги, то многие могли бы позавидовать
жизни поселенцев Юга.
Белгородская черта
стала надежным препятствием на пути татарских набегов. Хотя татары многократно
опустошали Белгородчину, им ни разу не удалось прорваться за черту. С
середины XVII века началась прочная колонизация южных областей; сюда устремился
поток переселенцев из центральных районов. Со времени строительства черты до конца XVII
века запашка в южных уездах возросла в 7 раз[93]; примерно так же возросло и
население. С 1670-х годов началась помещичья колонизация Юга: помещики стали в
массовом масштабе переводить своих крестьян на отмежеванные им земли «дикого
поля»; уже в 1678 году три четверти бояр имели владения на Юге. «В Тульских и в
Орловских и в иных к тому краю прилегающих местах, – говорилось в докладе
Разрядного приказа в 1681 году, – многие государевы ближние люди... помещики и
вотчинники в диких полях построили многие села и деревни... а тем в Московском
государстве хлеба и съестных запасов учинилось множество и покупке всего цена
дешевая...»[94]
Это были процессы огромного значения, ведь оттесненное татарами в северные леса русское крестьянство веками пыталось выйти в черноземные степи. После побед Ивана Грозного Русь продвинулась за Оку в верховья Дона – но во время Смуты татары отбросили поселенцев назад в северные леса. Теперь России наконец-то удалось закрепиться в южных степях; это означало, что мощь русского государства будет расти за счет освоения новых плодородных земель. Скученное на Севере население теперь получило возможность переселяться на юг, и угроза нового перенаселения отодвигалась на столетия. С точки зрения демографически-структурной теории процесс колонизации означал расширение экологической ниши – увеличение средств существования (means of subsistence), последствием которого должны были стать уменьшение цен и увеличение реальной заработной платы – те явления, которые действительно отмечались в конце XVII века.
В 1678 году в
Черноземном центре проживало уже 1,8 млн. человек, в то время как в старом Нечерноземном
центре – 3,5 млн. На Белгородчине насчитывалось 260 тысяч не имевших крепостных
детей боярских-«однодворцев» (с семьями), поставлявших в войско 40 тысяч
солдат, драгун, рейтар[95].
У служилых людей были крепкие хозяйства: на двор в среднем приходилось 3 лошади
и 4 коровы. Небедно жили и дворцовые крестьяне: в Тамбовском уезде большинство
дворов имело 2-3 лошади, 2-3 коровы и с избытком обеспечивало себя хлебом[96].
Вся территория страны
разделялась на две части, старые, «заселенные», и новые, «заселявшиеся» области
(Юг и Поволжье). По оценке Я. Е. Водарского за вторую половину XVII века
площадь пашни в «заселенных» областях возросла с 8 до 13 млн. десятин, а в
«заселявшихся» областях – с 4 до 16 млн.[97]
Таким образом, уступая в численности населения, новые «заселявшиеся» области
уже превосходили старые «заселенные» по размерам запашки. Юг стал поставщиком хлеба для центральных районов;
в конце 70-х годов эти поставки достигали 1 млн. пудов, и правительство не раз
с удовлетворением отмечало рост «хлебного пополнения»[98].
Неомальтузианская
теория утверждает, что период восстановления характеризуется относительно
медленным ростом городов.
Действительно, наличие свободных
земель не создавало у крестьян стимула к занятию ремеслом и переселению в
города, поэтому в XVII веке города росли сравнительно медленно.
Русские города этого периода были в большей степени крепостями и
административными центрами, нежели торгово-ремесленными поселениями. Жившие в городах
«служилые люди» – дворяне, стрельцы, казаки и т. д. – по своей численности
превосходили «посадских людей», торговцев и ремесленников. По оценке Я. Е.
Водарского в 1652 году городское население составляло 247 тыс. человек мужского
пола, в том числе 139 тыс. служилых и 108 тыс. посадских людей, в 1678 году –
329 тыс. человек, в том числе 149 тыс. служилых и 134 тыс. посадских людей.
Население Москвы в 1640-х годах насчитывало около 38 тыс. жителей мужского
пола, в том числе около 20 тыс. служилых, 10 тыс. посадских и 8 тыс. «прочих»;
к 1680 году число жителей возросло до 51 тыс. в том числе 20 тыс. служилых, 20
тыс. посадских и 11 тыс. «прочих». Другие города намного уступали размерами
Москве; в Ярославле в конце XVII века насчитывалось 8 тыс. жителей мужского
пола, в Пскове, Казани и Астрахани – 5 тыс. Новгород, когда-то превосходивший
по размерам Москву, находился в глубоком упадке, мужское население этого города
не превышало 3 тыс.[99]
Среди городского
населения выделялась богатая торгово-промышленная верхушка – гости, торговые
люди гостиной и суконной сотен. Это привилегированное купечество вело торговлю
в масштабе всей страны и имело капиталы в тысячи рублей, однако оно было очень
немногочисленно: в конце XVII века оно насчитывало лишь 250-300 семей. Собственно
же посадские люди были в основной массе мелкими ремесленниками и торговцами,
торговавшими со скамей и лотков, и стоимость товаров у них не достигала подчас
одного рубля[100].
После
разорения времен Смуты уровень развития ремесел и промышленности оставался
низким. Крупное ремесло было представлено несколькими
десятками кожевенных мастерских и винокурен. На соляных промыслах близ Соли
Камской в конце XVII века имелось около 200 варниц, на которых было занято
около 4 тыс. работников. Мануфактуры были редким явлением; они обычно принадлежали
либо дворцовому хозяйству (Хамовный, Печатный, Монетный дворы), либо
иностранцам. Голландские предприниматели построили близ Тулы и Каширы несколько
доменных заводов, в основном отливавших пушки. В начале 1660-х годов на этих
предприятиях насчитывалось всего лишь 119 постоянных рабочих, в том числе 56
иностранцев[101].