Нефедов С. А.
УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
И ПРИЧИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Статья опубликована в журнале «Общественные науки и
современность»,
2010, № 5. С. 126-137.
Вопрос об уровне потребления продуктов
питания в России до недавнего времени не был предметом споров среди историков.
Как советские историки, так
и дореволюционные экономисты
считали уровень потребления в России крайне низким. Эта истина была признана и
на официальном уровне правительственных комиссий, собравших многие тома
статистических данных [Свод… 1902; Материалы… 1903]. В конце 90-х годов проблема
«оскудения Центра» стала объектом рассмотрения «Особого совещания» под
председательством А. И. Звегинцева, «Комиссии 1901 года», «Особого совещания о
нуждах сельскохозяйственной промышленности» [Симонова, 1971]. «Комиссию 1901 года» возглавлял заместитель С. Ю.
Витте, В. Н. Коковцов, к работе было привлечено свыше ста экономистов и статистиков. Комиссия
проделала огромную работу по сбору и обработке статистических сведений,
результатом которой стал известный статистический сборник, служащий ценным
источником для характеристики социально-экономического развития России [Материалы…
1903]. «Это была самая полная сводка
большей частью неопубликованных сведений ведомств и частной земской
статистики», - признает Б. Н. Миронов [Миронов, 2008а, с. 23]. С.
Ю. Витте писал, что «весь этот материал представляет
собою богатые данные для всех исследований и даже для всяких научных
исследований» [Витте, 1960, с. 558]. Проанализировав эти данные, «Комиссия 1901 года» сделала «общее
заключение о крайне неудовлетворительном
состоянии земледельческого промысла в большинстве земледельческих районов,
обнимающих весь центр, весь восток и даже часть юга и… о менее успешном
развитии или даже об упадке благосостояния в этой обширной области»
[Материалы… 1903, Т. 3, с. 280]. О
результатах работы другой комиссии, «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной
промышленности», С. Ю. Витте писал следующее: «…Из материалов
этого сельскохозяйственного совещания всякий исследователь увидит, что в умах
всех деятелей провинции того времени, т.е. 1903-1904 гг. бродила мысль о
необходимости для предотвращения бедствий революции сделать некоторые
реформы… Все революции происходят от
того, что правительства во время не удовлетворяют назревшие народные
потребности» [Витте 1960, с. 538]. В
препроводительной записке к журналам «Особого совещания» Витте сообщал царю,
что сложившийся порядок держится только на долготерпении крестьянства и оно
слишком долго подвергается перенапряжению [цит. по: Милов, 2008, с. 92]. С этими выводами соглашался и герой
наших либеральных историков, П. А. Столыпин. В отчете о волнениях в
Саратовской губернии он писал: «Все
крестьянские беспорядки, агитация среди крестьян и самовольные захваты возможны
только на почве земельного неустройства и крайнего обеднения сельского люда.
Грубое насилие наблюдается там, где крестьянин не может выбиться из нищеты»
[цит. по: Кабытов, 1990, с. 52]. Царские сановники говорили о «нищете» и
«крайнем обеднении» открыто, не заботясь о том, что скажут историки XXI века. Тот же Столыпин, став
премьер-министром, так отвечал на речи марксистов о бедственном положении
деревни: «Я охотно соглашусь… с нарисованной
ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим правительство
уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса…» [Столыпин,
1991, с. 208].
Западная историография первоначально также признавала эту картину
оскудения земледельческой России. До 70-х годов прошлого века причину революции
видели в ухудшении положения народных масс, и прежде всего, крестьянства;
главной причиной оскудения крестьянства считался быстрый рост населения,
приведший к острой нехватке земли
[например: Robinson, 1967; Gerschenkron, 1967; Volin 1970]. Однако в 1970-х годах положение
изменилось. Один из апостолов «холодной войны», Джон Кенан, в
При этом, однако, иногда использовались не вполне корректные
приемы. Так, П. Грегори, оценивая суммарное потребление крестьян, не учитывал потребление овса и ряда других
культур и вел исчисление не в натуральных, а стоимостных показателях, что
завышало результат ввиду опережающего роста производства более дорогих хлебов
[Грегори, 2001, с. 36]. Кроме того, американский автор сравнивал лишь пятилетия
1885-1889 и 1897-1901 гг., хотя С. Уиткрофтом было показано, что потребление
сильно колебалось по пятилетиям, и подбирая даты для сравнения, можно получить
любой нужный исследователю результат [Wheatcroft, 1991, р. 134, 172].
Акцентируя увеличение производства
сельскохозяйственной продукции западные историки, тем не менее, признавали, что
до 1890-х годов душевое потребление уменьшалось. Дж. Гатрелл, например, писал:
«С быстрым ростом населения ситуация еще более ухудшилась в 1880-1890-е годы,
“кризис центра” стал острым» [Гатрелл,
1992, с.109). Что же касается дальнейшей динамики потребления, то, к примеру, Дж. Бушнелл, признавал, что «даже самая
оптимистическая интерпретация источников все равно укажет на бедность
крестьянина на рубеже веков (пусть несколько уменьшившуюся по сравнению с
предыдущим периодом)» [Bushnell 1988: 75].
Судя
по обилию ссылок П. Грегори, Дж. Симмса, С. Хока, работы этих историков оказали большое влияние на взгляды некоторых
российских историков, в частности, на Б. Н. Миронова, который в своих последних работах
говорит не только об увеличении потребления в конце XIX-начале ХХ вв., но и о
том, что его уровень «в целом удовлетворял существовавшие в то время
потребности в продовольствии» [Миронов,
2008б, с. 95]. В статье, опубликованной в рецензируемом
журнале «Родина», Б. Н. Миронов утверждает, что «из табл. 3 следует, что в
1896-1915 годах крестьяне в среднем получали в день 2952 ккал на душу
населения, в переводе на взрослого мужчину – 4133 ккал, что являлось
достаточным для совершения тяжелой физической работы в течение дня круглый год»
[Миронов, 2009, c.19]. Это – практически единственный аргумент, приводимый Б. Н. Мироновым
в пользу его тезиса об «удовлетворенности» русскотго крестьянства в отношении
продовольствия (данные о расходах на водку, разумеется, сюда не относятся).
Ссылка к табл. 3 говорит о том, что эти цифры
подсчитаны по данным из работы С. А. Клепикова [Клепиков, 1920], причем
методика подсчетов не раскрывается. Данные С. А. Клепикова используются и в
другой работе Б. Н. Миронова [Миронов, 2002], где приводится та же табл.3 –
впрочем, в этой работе на основании анализа тех же цифр Б. Н. Миронов признает,
что «рацион низшей
экономической группы крестьян, составлявшей 30% всего сословия, не обеспечивал
их достаточной энергией» [Миронов, 2002, c. 37]. Это, конечно противоречит его же утверждению, что этот рацион «в целом удовлетворял существовавшие в то время потребности в продовольствии»
- но не в этом суть. Представляется важным проанализировать, насколько вообще
репрезентативны данные С. А. Клепикова и можно ли их использовать, для того,
чтобы делать далеко идущие выводы.
|
Губерния |
Уезд |
Год обследования |
Число бюджетов |
Хлеб и картофель в переводе на хлеб |
|
|
|
на едока |
на душу |
|||
|
Вятская |
1899-1900 |
1987 |
29,83 |
21,3 |
|
|
Вологодская |
Вельский |
1907 |
102 |
17,83 |
12,7 |
|
Вологодский |
1905 |
136 |
19,72 |
14,1 |
|
|
Кадниковский |
1909 |
243 |
26,47 |
18,9 |
|
|
Тотемский |
1903 |
91 |
21,32 |
15,2 |
|
|
Итого |
|
572 |
22,41 |
16,0 |
|
|
Олонецкая |
1909 |
19 |
31,98 |
22,8 |
|
|
Новгородская |
1903-1911 |
92 |
29,8 |
21,3 |
|
|
Костромская |
1908-1909 |
376 |
21,02 |
15,0 |
|
|
Ярославская |
1909 |
2192 |
21,45 |
15,3 |
|
|
Московская |
1910-1911 |
45 |
21,51 |
15,4 |
|
|
Смоленская |
1913 |
71 |
24,47 |
17,5 |
|
|
Калужская |
1909 |
119 |
19,22 |
13,7 |
|
|
Тульская |
|
1911-1914 |
655 |
28,84 |
20,6 |
|
Пензенская |
1913 |
261 |
35,4 |
25,3 |
|
|
Тамбовская |
1915 |
85 |
25,55 |
18,3 |
|
|
Симбирская |
1913 |
225 |
31,62 |
22,6 |
|
|
Черниговская |
1914 |
5 |
24,3 |
17,4 |
|
|
Харьковская |
1910 |
101 |
25,69 |
18,4 |
|
|
Херсонская |
1896-1898 |
124 |
38,1 |
27,2 |
|
Табл. 1. Данные С. А. Клепикова о потреблении хлебопродуктов
и картофеля, который переведен в хлеб в соотношении 4:1 для губерний
Европейской России, в которых проводились бюджетные обследования в 1896-1915
гг. «Едок»- это взрослый мужчина, он потребляет в 1,4 раза больше средней
«души» (Клепиков 1920: прил.1)
Как следует из сведений о 16 губерниях,
приведенных в таблице 1, имеющиеся данные относятся к разным годам и обладают
различной степенью достоверности. Пять из 16 обследований охватывали меньше ста
хозяйств и могли давать выборочные средние, весьма далекие от реальных
значений. Данные вологодского обследования показывают, что потребление в
соседних уездах одной губернии резко колебалось: потребление в Кадниковском
уезде в
Как известно, таблица, приводимая С. А.
Клепиковым, была основана на данных приведенных в сборнике материалов под редакцией
А. В. Чаянова (Чаянов, 1916). Однако специалисты, работавшие над
вопросом о введении продовольственных норм, считали эти данные
неудовлетворительными. «Сделанная А. В. Чаяновым сводка имеющихся бюджетных
данных представляет довольно скудный ряд разрозненных, разноценных и часто
устаревших показателей размеров душевого потребления всех хлебов… менее чем по
15 губерниям… - писал Е. Е. Яшнов. – Таким образом от пользования в данной
области бюджетными материалами приходится неизбежно отказаться, тем более, что
и сама возможность распространить данные о потреблении хлеба в небольшом
сравнительно числе обследованных хозяйств на все население губернии
представляется в высшей степени сомнительной» [Яшнов, 1916а, с.
59]. Известный статистик А. Е. Лосицкий отмечал, что
«невозможно представить точную динамику крестьянского потребления… ввиду
небольшого числа довоенных наблюдений, малого числа охватываемых ими губерний,
разновременности и разнометодичности их» [Лосицкий, 1927а, с. 83].
Какое число хозяйств нужно обследовать, чтобы
получить относительно достоверные данные? На основании анализа, проведенного
методами математической статистики, ЦСУ СССР в 1925-1929 гг. считало
необходимым обследовать 10-15 тыс. хозяйств каждый
год, причем эти хозяйства должны быть распределены по губерниям
пропорционально численности населения, а
выборка должна быть действительно случайной, независимой от статистика
[Бокарев, 1981: 45-54]. Данные С. А. Клепикова и Б. Н. Миронова охватывают лишь
7381 хозяйство за 20 лет, при крайне
неравномерном распределении: в двух губерниях (Ярославской и Вятской) учтены
4179 хозяйств, а на остальные губернии
приходится менее половины от их общего числа.
Но дело не только в невозможности распространения
данных небольшого числа обследований. «Есть основания полагать, - утверждает М.
А. Давыдов, - что методические неверен
был и подход статистиков к данным бюджетов» [выделено
М. А. Давыдовым: Давыдов, 2003, с. 195]. К выводу о том, что бюджетные обследования
приукрашивают реальную картину, приходили ранее многие исследователи. Робинсон
и Н. Н. Кореневская утверждали, что это происходит за счет преувеличения в
выборке доли более состоятельных хозяйств. При некоторых обследованиях,
например, при костромском и вологодском, беспосевные хозяйства вообще не
включались в выборку [Robinson, 1967, с. 251; Кореневская,
1953, с. 29–41]. Относительно недавно «несовершенство методов» было убедительно
показано М. А. Давыдовым, который установил, что часть зерна, потребляемого, по бюджетным данным, в
пищу, в действительности расходовалась на фураж [Давыдов, 2003, с. 195-198].
Казалось бы, нерепрезентативность
имеющихся для начала ХХ века бюджетных данных совершенно очевидна. В лучшем
случае (и с учетом «несовершенства методов»)
эти данные можно использовать для характеристики потребления в отдельных
губерниях (или уездах) в отдельные урожайные годы. Но совершенно недопустимо
опираться на них для определения
среднего уровня потребления за целых двадцать лет (1896-1915) и более того,
распространять эти данные с 16 губерний
на 50 губерний Европейской России – как это делает Б. Н. Миронов.
Но как определить уровень потребления хлебов в России начала ХХ
века? Эта проблема была чрезвычайно
актуальной для Е. Е. Яшнова и его сотрудников из Особого совещания по
продовольственному делу, которые в
Степень надежности другого показателя, необходимого
для исчисления урожая – величины посевных площадей – можно проверить,
сопоставляя данные ЦСК с данными сельскохозяйственной переписи
|
Район |
|
Район |
|
|
Северный |
83,8 |
Центрально-земледельческий |
99,7 |
|
Северно-земледельческий |
114,2 |
Юго-западный |
106,4 |
|
Петроградский |
110,2 |
Малороссийский |
107,6 |
|
Прибалтийский |
89,2 |
Новороссийско-Донской |
101,0 |
|
Западный |
98,3 |
Юго-восточный |
96,6 |
|
Центрально-промышленный |
122,2 |
Нижне-Волжский |
72,1 |
|
Прикамский |
106,7 |
Ставропольский |
88,2 |
|
Приуральский |
98,0 |
В целом |
103,8 |
Табл. 2. Посевные площади
Из приводимой
таблицы следует, что ЦСК занижал посевные площади на Юго-Востоке и в
Прибалтике, но завышал их в
Центрально-промышленном районе, в Малороссии и на Юго-западе; в остальных же
районах (в частности, в Центрально-земледельческом и Западном) данные были
достаточно точными. В целом по стране
получалось завышение посевных данных ЦСК над данными переписи на 3,8%.
Таким образом, если считать (вслед за Н. Виноградовой и С. Уиткрофтом), что
урожайность определялась ЦСК достаточно точно, то и цифры для урожая должны быть достаточно надежными - и по всяком случае, ввиду некоторого
завышения посевных площадей, данные ЦСК не
преуменьшали общего сбора зерна в
Европейской России.
Таким образом, мы можем использовать данные ЦСК для
определения чистого остатка зерновых – это то количество хлеба, которое
остается в стране за вычетом экспорта и расходов на посев. Если же добавить к
чистому остатку хлебов чистый остаток картофеля, то мы получим величину
потребления хлеба и картофеля в пищу и на фураж. (В наших расчетах 5 пудов картофеля
приравнивается к 1 пуду зерна [см.: Чаянов, 1916, с. 47]. Данные о производстве хлеба в 53
губерниях Европейской России (включая Северный Кавказ) имеются с 1893 года, и
график на рис. 1 отражает динамику потребления в 1893-1914 годах.
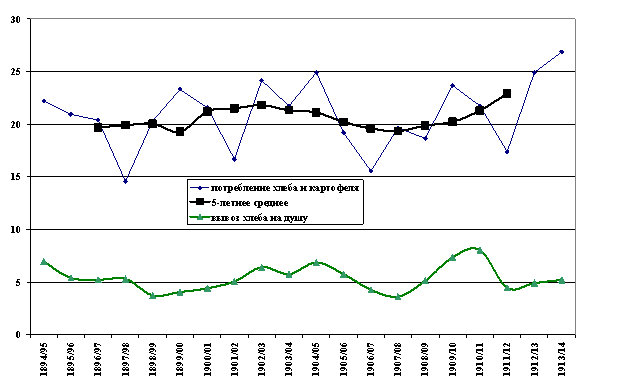
Рис. 1. Динамика потребления хлеба и картофеля (в пересчете
на хлеб 5:1) и вывоза хлеба на душу населения по 53 губерниям Европейской
России [Урожай… 1894-1914; Сборник сведений… 1902, с. 7; Свод… 1902, с.
132-133; Сборник статистико-экономических сведений…1916, табл. VII, A.4].
Как видно из
графика, потребление в отдельные годы существенно менялось в зависимости от
урожаев, поэтому для определения долговременной динамики необходимо использовать
кривую тренда – в данном случае, 5-летние среднее. Кривая тренда движется вдоль
средней линии в 20,6 пуда, плавно поднимаясь до 21,8 пудов в 1900-1904 годах, опускаясь до 19,3 пудов в 1905-1909
годах и затем снова поднимаясь до 22, 9 пуда
в 1909-1913 годах. Среднее же значение
душевого потребления в 1901-1914 гг. оказывается равным 21,2 пуда.
Посчитанное таким образом потребление включает расходы на пищу для людей
и фураж для скота, на винокурение, а также потери. Но для того, чтобы определить
величину потребления в пищу, необходимо оценить расходы зерна на фураж. ЦСК не собирало данные о потреблении зерна
на корм скоту, но эта проблема была чрезвычайно важной для специалистов,
которые в 1916-1918 гг. готовили материалы для введения продовольственных норм.
Осенью 1917 года
Статистико-экономическое отделение Министерства продовольствия пыталось
подсчитать, сколько хлеба уходит на фураж. Были запрошены в губерниях сведения
о нормах кормления скота и на основании их
в сентябре 1917 гг. были приняты следующие нормы для расчетов
потребления на фураж: на лошадь рабочего возраста расходуется 25 пуд. зерна, на
корову или быка – 12 пуд., на жеребят до 1 года - 8 пуд.,
на нетелей, подтелок и бычков – 6 пуд., на свиней – 5 пуд.[Лосицкий,
1918, с. 78-79]. По этим нормам на неоккупированной территории 53 губерний
Европейской России на корм скоту
тратилось 840 млн. пуд зерна (там же) -
7,5 пудов на душу населения. Нужно сказать, что эта оценка была весьма
скромной – по достаточно точным данным
ЦСУ СССР в 1925/26-1928/29 гг. душевой расход фуража составлял 9,4 пуд. зерна и
1,0 пуд картофеля в пересчете на зерно
[Нефедов, 2009, с. 114]. Тем не менее (очевидно, ввиду тяжелой
продовольственной ситуации) Министерство продовольствия в декабре
Для того чтобы оценить эти данные,
необходимо сравнить их с минимальной душевой нормой потребления на продовольствие.
ЦСУ СССР в 1920-х годах принимал норму в 3750 кал. на «едока» - взрослого
мужчину [Состояние питания… 1928, c. 50]. Среднестатистическая «душа» потребляет в 1,4 раза меньше «едока»,
следовательно, минимальная норма для сельской души составляет 2680 ккал в день.
Естественно, хлеб и картофель обеспечивали лишь часть этой энергетической
потребности, и норма их потребления зависела от присутствия в рационе других
продуктов, прежде всего, молока и мяса. В развитых странах с высоким
потреблением продуктов животноводства норма потребления хлеба была существенно
меньше, чем в России, где на хлеб и картофель приходилось 78% общей
калорийности рациона. Б. Н. Миронов на основании данных С. А. Клепикова,
установил, что по упомянутым бюджетным обследованиям крестьянская душа в
1896-1913 годах в среднем получала 2952 ккал в день, потребляя при этом 17,7
пуда хлеба и картофеля в год [Миронов, 2002, с. 32 ]. Отсюда легко подсчитать,
что при сохранении той же структуры питания для обеспечения нормы в 2680 ккал необходимо
16,1 пуда хлеба и картофеля в год (напомним, что мы пересчитываем картофель на
рожь в соотношении 5:1). Городская душа потребляет хлеба примерно на 23% меньше
[Лосицкий, 1927б, с. 18] и
можно подсчитать, что при доле городского населения в 15% норма потребления
хлеба и картофеля для всего населения составит примерно 15,5 пуда. Эта цифра
близка к расчетам группы известных историков-аграриев, которые полагали, что
минимальная норма потребления составляет 15 пудов на душу [Шапиро, 1971, с. 50].
Таким образом, среднее потребление в
пищу в 1901-1914 гг. (13,7-14,7 пуд.)
не дотягивало до нормы (15-15,5 пуд.);
это означает, что в (силу
статистического разброса) больше половины населения жило в условиях
постоянного недоедания. Впрочем, в разные
периоды положение было различным: в рекордное по урожайности пятилетие
1909/10-1913/14 гг. потребление в пищу составляло 15,4-16,4 пуда, а в
1908/9-1909/11 гг. – только 12,9-13,9
пуда. Положение осложнялось тем, что
ситуация была различной не только в разные пятилетия, но и в разных губерниях. Изменение потребления хлебов по отдельным
губерниям можно проследить, опираясь на данные урожайной и транспортной
статистики. Данные железнодорожной статистики можно считать точными, но данные
о водных перевозках менее достоверны. Для 1908-1913 годов эти данные были
обработаны статистиками в ходе подготовительных работ к нормированию
продовольствия в 1916-1917 годах [Яшнов, 1916б; Исчисление…1916] - но при этом отмечалось, что для средневолжских
губерний погрешность в водных перевозках может быть достаточно большой. Еще
одна проблема состоит в том, что данные о перевозках «второстепенных» хлебов
(кукурузы, гречихи, проса) имеются только за 1912-1914 годы, поэтому мы
исключили из рассмотрения (наряду со средневолжскими) южные степные губернии,
где кукуруза и гречиха играли существенную роль в посевах и перевозках. В табл.
3 приведена информация о потреблении (в пищу и на фураж) в 1908-1911 и 1909-1913 годах для 25 оставшихся
губерний, которая может считаться относительно надежной. Кроме того, в этой
таблице указано потребление в 1898-1902 гг. для 13 губерний, в которых как
водные перевозки, так и перевозки второстепенных хлебов были незначительны и
таким образом, имеется возможность определить потребление, учитывая лишь объем
урожая и железнодорожных перевозок. При анализе данных этой таблицы нужно также
учитывать, что данные ЦСК о посевных площадях для Центрально-промышленного и
Малороссийского районов были несколько завышенными (табл. 2), следовательно, немного
завышенными могут быть и данные о
потреблении.
|
Губерния |
1898-1902 |
ввоз(+) или вывоз(-) |
1908-11 |
ввоз(+) или вывоз(-) |
1909-13 |
ввоз(+) или вывоз(-) |
|
Петроградская |
|
21,0 |
16,9 |
23,9 |
19,5 |
|
|
Московская |
21,5 |
14,5 |
21,3 |
16,6 |
22,2 |
16,8 |
|
Архангельская |
|
15,2 |
9,9 |
16,1 |
10,8 |
|
|
Вологодская |
|
17,5 |
3,4 |
17,7 |
2,8 |
|
|
Новгородская |
|
17,7 |
5,1 |
18,8 |
5,7 |
|
|
Псковская |
17,7 |
1,5 |
19,6 |
3,5 |
19,9 |
3,4 |
|
Витебская |
16,6 |
2,4 |
17,8 |
3,8 |
18,4 |
3,7 |
|
Могилевская |
18,7 |
-0,1 |
18,1 |
1,9 |
19,2 |
1,6 |
|
Минская |
19,9 |
0,3 |
20,8 |
1,4 |
20,9 |
1,3 |
|
Тверская |
|
|
16,2 |
5,6 |
17,7 |
5,5 |
|
Смоленская |
22,9 |
1,5 |
19,4 |
4,8 |
21,0 |
3,8 |
|
Калужская |
19,1 |
2,7 |
16,7 |
5,5 |
18,2 |
5,0 |
|
Владимирская |
|
21,6 |
8,2 |
22,8 |
8,8 |
|
|
Тульская |
25,8 |
-9,5 |
18,5 |
-11,8 |
20,0 |
-10,1 |
|
Рязанская |
24,3 |
-4,9 |
16,9 |
-5,2 |
18,4 |
-4,1 |
|
Вятская |
|
|
22,5 |
-1,7 |
23,5 |
-1,9 |
|
Пермская |
|
|
26,0 |
2,2 |
27,8 |
2,8 |
|
Орловская |
25,0 |
-3,0 |
20,6 |
-2,8 |
21,9 |
-2,9 |
|
Курская |
30,1 |
-5,6 |
24,5 |
-3,4 |
27,2 |
-4,6 |
|
Воронежская |
|
20,1 |
-6,1 |
25,1 |
-6,7 |
|
|
Тамбовская |
26,6 |
-11,6 |
20,3 |
-12,7 |
24,6 |
-10,9 |
|
Киевская |
|
|
23,7 |
-1,5 |
25,4 |
-2,0 |
|
Полтавская |
|
23,8 |
-8,7 |
26,5 |
-9,2 |
|
|
Харьковская |
23,9 |
-3,8 |
24,1 |
-6,1 |
27,6 |
-6,3 |
|
Черниговская |
19,7 |
-2,5 |
16,8 |
0,4 |
18,4 |
-0,3 |
Табл. 3.
Погубернская динамика душевого потребления хлебов в пищу и на фураж 1898-1914
гг. [Подсчитано по: Яшнов, 1916б; Исчисление… 1916; Урожай… 1898-1914; Лященко,
1924, с. 266-267].
При анализе данных табл. 3, прежде всего,
обращают на себя внимание значительные колебания в уровне потребления даже
на уровне четырех-пятилетних средних. В этой связи становится
очевидной полная непригодность бюджетных данных за отдельные годы для
характеристики среднего потребления: действительно, какое значение могут иметь
данные за один случайно (или неслучайно)
выбранный год, если даже пятилетние средние отличались иногда на 30%? Далее, из приведенных данных следует, что потребление в
нечерноземных губерниях (кроме столичных) было низким уже в 1898-1902 годах и в
дальнейшем оно оставалось на низком уровне – причем оказывается, что местное
сельское хозяйство не могло прокормить растущее население и уровень потребления
поддерживался за счет намного увеличившегося ввоза продовольствия. Для
черноземных губерний характерно, что в 1898-1902 годах (несмотря на большой
вывоз хлеба) потребление повсюду было существенно более высоким, чем в
нечерноземной полосе (исключение составляет только Черниговская губерния). Но к
1908-1911 гг. потребление в большинстве губерний резко падает, причем особенно
тяжелое положение складывается в Тульской и Рязанской губерниях, откуда
продолжается большой вывоз, несмотря на явный недостаток продовольствия в
деревне. В 1909-1913 годах благодаря хорошим урожаям положение в Курской и
Харьковской губерниях заметно улучшается, но Тульской, Рязанской и Орловской
губерниях потребление остается низким –
то есть мы наблюдаем явный кризис Северного Черноземья.
При рассмотрении данных табл. 3, нужно учесть, что
потребления зерна на фураж зависит от количества скота в губернии. Специалисты из Министерства
продовольствия подсчитали, сколько зерна уходит на фураж в каждой губернии,
если кормить скот по указанным выше – «сентябрьской» и «декабрьской» нормах
Министерства продовольствия [Лосицкий, 1918, с. 76-79]. Отсюда, зная численность населения губернии и
принимая норму потребления в пищу в 15,5 пуда, можно подсчитать норму
потребления в пищу и на фураж и сравнить ее с данными табл. 3.
|
Губерния |
Нормы потребления |
Потребление в % к декабрьской норме
|
Потребление в % к сентябрьской
норме |
|||
|
декабрьская |
сентябрьская |
1908-11 |
1909-13 |
1908-11 |
1909-13 |
|
|
Петроградская |
17,6 |
17,3 |
119,4 |
135,4 |
121,7 |
138,1 |
|
Московская |
17,8 |
17,7 |
119,5 |
124,6 |
120,4 |
125,6 |
|
Архангельская |
20,2 |
21,2 |
75,4 |
79,7 |
72,0 |
76,1 |
|
Вологодская |
21,0 |
23,4 |
83,5 |
84,3 |
74,9 |
75,6 |
|
Новгородская |
21,5 |
23,0 |
82,1 |
87,1 |
76,8 |
81,5 |
|
Псковская |
22,1 |
23,5 |
88,8 |
90,0 |
83,5 |
84,7 |
|
Витебская |
20,7 |
21,6 |
86,1 |
89,0 |
82,4 |
85,1 |
|
Могилевская |
21,7 |
23,1 |
83,4 |
88,3 |
78,4 |
83,1 |
|
Минская |
21,0 |
21,9 |
99,0 |
99,9 |
94,8 |
95,7 |
|
Тверская |
20,2 |
21,4 |
80,1 |
87,5 |
75,7 |
82,6 |
|
Смоленская |
21,4 |
22,8 |
90,7 |
97,8 |
85,3 |
92,0 |
|
Калужская |
20,7 |
21,9 |
80,4 |
87,9 |
76,2 |
83,2 |
|
Владимирская |
18,8 |
19,4 |
115,2 |
121,2 |
111,3 |
117,0 |
|
Тульская |
20,5 |
21,5 |
90,0 |
97,2 |
86,0 |
92,9 |
|
Рязанская |
19,7 |
20,4 |
85,7 |
93,5 |
83,0 |
90,5 |
|
Вятская |
21,6 |
22,9 |
103,9 |
108,7 |
98,1 |
102,6 |
|
Пермская |
23,1 |
25,1 |
112,4 |
119,9 |
103,8 |
110,7 |
|
Орловская |
20,2 |
21,0 |
101,9 |
108,3 |
98,1 |
104,2 |
|
Курская |
20,6 |
21,6 |
118,8 |
132,0 |
113,5 |
126,2 |
|
Воронежская |
21,0 |
21,9 |
95,7 |
119,5 |
91,6 |
114,5 |
|
Тамбовская |
20,2 |
21,0 |
100,7 |
121,8 |
96,9 |
117,2 |
|
Киевская |
19,7 |
20,3 |
119,9 |
128,4 |
116,7 |
125,0 |
|
Полтавская |
20,3 |
20,9 |
117,1 |
130,2 |
114,1 |
126,8 |
|
Харьковская |
20,9 |
21,7 |
114,9 |
132,1 |
111,0 |
127,6 |
|
Черниговская |
21,6 |
22,2 |
77,8 |
85,4 |
75,6 |
83,1 |
Табл. 4. Нормы
потребления и реальное потребление в процентах к различным нормам [подсчитано по: Лосицкий, 1918, с.
76-79].
Данные табл. 4. показывают, что потребление в
столичных губерниях было значительно выше нормы – и это естественно, так как
здесь были сосредоточены наиболее зажиточные слои населения. Выше нормы было
потребление и в промышленной Владимирской губернии. В остальных губерниях
Нечерноземья среднее потребление было ниже нормы, и особенно низким оно было на
Севере. Низким было потребление и в северных черноземных губерниях, но к югу
потребление постепенно увеличивалось и в Курской, Киевской, Харьковской, Полтавской
губерниях оно было относительно высоким. На востоке, в Вятской и Пермской
губерниях, уровень потребления был удовлетворительным, но Уфимская губерния уже
испытывала последствия аграрного перенаселения. «Как и в центре
России, перед крестьянством Уфимской губернии вставал земельный вопрос, - пишет
М. И. Роднов. - Около 20-30% дворов, сеявшие до 2 дес., представляли из себя
пауперов-полупролетариев, избыточное, ненужное население, которое не могли
принять города… Вся эта масса вела непрерывную борьбу за выживание, оказываясь
в годы частых неурожаев за гранью физиологического существования» [Роднов, 2003, с . 401, 405].
Нужно, конечно, учитывать, что данные табл. 4
характеризуют лишь среднее
потребление. В реальности положение осложнялось тем, что в российской деревне
существовали две большие группы крестьян, резко различавшихся по имущественному
положению – бывшие государственные и бывшие крепостные крестьяне. Например, в Курской губернии в
В
целом можно сделать вывод о том, что в
Европейской России существовали относительно богатые и относительно
бедные, полуголодные области – и разница в уровне потребления была очень значительной. Поэтому
неправомерно, как делает Б. Н. Миронов, ограничиваться замечанием, что «в 1896-1915 годах крестьяне в среднем получали в день 2952 ккал на душу
населения… что являлось достаточным для совершения тяжелой физической работы в
течение дня круглый год» [Миронов, 2009, с.19]. Средние цифры для всей
Европейской России, распространенные на 20 лет, да еще полученные из
нерепрезентативных источников, не раскрывают истинного положения русского
крестьянства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Виноградова Н. Русская урожайная
статистика // Вестник статистики. 1926. XXIII,
XXIV.
Витте С. Ю. Воспоминания. Т.
Грегори П. Экономическая история
России: что мы о ней знаем и чего не знаем. Оценка экономиста// Экономическая история.
Ежегодник.
Давыдов М. А. Очерки аграрной истории России в конце XIX – начале ХХ вв. М., 2003.
Иванцов Д. И. К
критике русской урожайной статистики. Пг, 1915.
Исчисление избытков и недостатков четырех главнейших хлебов
урожая
Кабытов П. С. Русское
крестьянство в начале XX века. Куйбышев, 1990.
Клепиков С. А. Питание
русского крестьянства. Вып. 1:
Нормы потребления главнейших пищевых продуктов. М., 1920.
Кореневская Н. Н. 1953. Бюджетные обследования
крестьянских хозяйств в дореволюционной России. М..
Кореневская Н. Н. Бюджетные обследования крестьянских
хозяйств в дореволюционной России. М., 1953.
Крестовников А. Н. Питание крестьян Костромской губернии по
бюджетным исследованиям 1908-09 гг. Кострома, 1912.
Лосицкий А. Е. Перспективы потребления продовольственных
продуктов в Союзе// Плановое хозяйство. 1927а. № 4.
Лосицкий А. Динамика потребления хлебных продуктов в СССР в
связи с реконструкцией питания// Статистическое обозрение. 1927б. № 12.
Лосицкий А. Е. (ред.) Урожай хлебов в России в
Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции Роccии. Т. I. Л., 1924.
Материалы Высочайше утвержденной 16 ноября 1901
года Комиссии по исследованию вопроса о движении с
Милов Л. В. (ред.)
История России. ХХ - начало XXI века. М. 2008.
Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII-XIX вв.). Л., 1985.
Миронов Б. Н. «Сыт конь – богатырь, голоден –
сирота»: питание, здоровье и рост населения России второй половины XIX – начала
ХХ века// Отечественная история. 2002. № 2.
Миронов Б. Н. Политика versus истина: особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной промышленности 1902-1905 гг. // Вестник
Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 2. История. Вып. 1. 2008а.
Миронов Б. Н. Достаточно ли
производилось пищевых продуктов в России в XIX – начале ХХ в.? // Уральский
исторический вестник. 2008б. № 3.
Миронов Б. Н. 2009. Причины
русских революций. Голодный экспорт зерна, Родина. №11. С. 17-22.
Нефедов С. А.. Аграрные и
демографические итоги русской революции. Екатеринбург, 2009.
Першин П. Н. Аграрная революция в России. Кн. I. М., 1966.
Роднов М. И. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ века
(1900-1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Дисс… докт. ист.
наук. Уфа, 2003.
Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли
России, Т. I. СПб., 1902.
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому
хозяйству России и иностранных государств. Год девятый. Петроград, 1916.
Свод статистических сведений по сельскому хозяйству России к
концу XIX века. Вып.I-III. СПб., 1902.
Симонова М. С. Проблема «оскудения» Центра и ее роль в формировании
аграрной политики самодержавия в 90-х годах XIX-начала ХХ в.//Проблемы
социально-экономической истории России. М., 1971.
Состояние
питания сельского населения СССР. 1920-1924 // Труды ЦСУ. Т. 30. Вып.
Статистика землевладения
Столыпин П. А.. Полное
собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. М., 1991.
Тюкавкин В. Г..
Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 2001.
Урожай 1883 (1884,
1885… 1914) года. СПб., 1883-1914.
Чаянов А. В. (ред.). Материалы по вопросам
разработки продовольственного плана. Вып. 1: Нормы продовольствия населения России по данным бюджетных исследований
. М., 1916.
Шапиро А. Л. (ред.) Аграрная история Северо-Запада России.
Вторая половина XV-начало XVI века. Л. 1971.
Яшнов Е. Е. (ред.) Производство, перевозки и потребление
хлебов в России в 1909-1913 гг. Материалы по продовольственному плану. Вып. 1.
Пг., 1916б.
Яшнов Е. К вопросу о продовольственном плане // Известия
Особого совещания по продовольствию. 1916а. № 28.
Bushnell J. Peasant Economy
and Peasant Revolution at the Turn of the Century: Neither Immiseration nor
Autonomy // Russian Review. 1988.Vol.
47.No.1.
Gatrell P. The Tsarist Economy.
1850-1917. N. Y., 1986.
Gerschenkron A. Agrarian
Policies and Industrialization:
Gregory P. Russian National
Income. 1885-1913.
Hoch S. On
Good Numbers and Bad: Malthus, Population Trends and Peasant Standard of Living
in Late Imperial
Robinson G. T. Rural
Simms J. The
Crisis in Russian Agriculture at the End of Nineteenth Century: A Different
View //Slavic Review. 1977. Vol. 36. N 3.
Volin L. A Century of Russian
Agriculture: From Alexander II to Khrushchev.
Wheatcroft S.
Crises and the Condition of the Peasantry in Late
Imperial
Wheatcroft S. G., Davies R. W. The crooked mirror of Soviet economic statistics// The economic transformation of the Soviet
Union, 1913-1945.