ГЛАВА IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКИ-СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ
4.1 Основные положения демографически-структурной
теории
Появление демографически-структурной
теории Джека Голдстоуна открыло новый этап в развитии концепции
демографического циклизма[1].
Отличительной чертой демографически-структурной теории является новый,
структурный подход: в то время как неомальтузианская теория рассматривала
население и экономику в целом, демографически-структурная теория рассматривает
структуру - народ, государство и элиту - анализируя взаимодействие элементов
этой структуры в условиях роста населения.
Прежде всего, Дж. Голдстоун дает
определение составляющих структуру элементов. Государство, по Дж. Голдстоуну, -
это учреждения, являющиеся носителями централизованной и предписывающей законы
власти, включая отдельных лиц, управляющих этими учреждениями. В частности,
государство включает монархов, их придворных, чиновников, судей и армию. Элита
– это лица, имеющие исключительное общественное или имущественное положение:
дворянство, крупные землевладельцы, купцы, высшие чиновники и т. д. Все
остальное население составляет третий элемент структуры - простой народ, или
просто «народ»[2].
Элементы структуры взаимодействуют между
собой. Государство обеспечивает народу и элите защиту от антиобщественных
элементов и внешних врагов, а также заботится о поддержании экономического
роста; для обеспечения этих функций оно собирает налоги, то есть отнимает у
народа часть ресурсов. Элита по традиции обеспечивает государство кадрами
чиновников и офицеров (а в более ранние времена – в целом, кадрами
профессиональных воинов). Она также отнимает у народа часть ресурсов, в
частности, в виде ренты с принадлежащей ей земель, и негативно реагирует на
попытки государства увеличить свою долю. Таким образом, государство, элита и
народ находятся в состоянии постоянной борьбы за ресурсы – и динамику этой
борьбы необходимо учитывать при определении тех ресурсов, которые остаются у
простого народа[3].
(Здесь Дж. Голдстоун неявно учитывает критику неомальтузианской теории
марксистскими историками).
Необходимо подчеркнуть, что Дж.
Голдстоун, следуя за Т.Скочпол[4]
и современной американской школой исторической социологии, рассматривает
государство как относительно независимый элемент социальной структуры.
Государство, принимающее, в частности, форму абсолютной монархии, в принципе,
способно проводить этатистскую политику, не совпадающую с интересами элиты, и
его взаимоотношения с элитой (и народом) представляют собой сложный комплекс
сотрудничества и противостояния – но в обычной ситуации сотрудничество все же
преобладает[5].
Далее Голдстоун вводит понятие
государственного кризиса, - это ситуация, в которой значительная часть элиты и
народа полагает, что политика государства является неэффективной,
несправедливой или устаревшей, не отвечающей современным нуждам. В период
кризиса противостояние между элементами общественной структуры начинает
преобладать над сотрудничеством и борьба за ресурсы становится более острой.
Государственный кризис может быть вызван, например, поражением в войне,
банкротством казны или неспособностью подавить беспорядки – но часто является
следствием неспособности государства справится с нарастающими экономическими проблемами[6].
Другое важное понятие, вводимое
Голдстоуном, - это понятие «разрушения государства», «брейкдауна», ситуации,
когда государственный кризис приводит к выступлениям элиты против государства и
к народным восстаниям, направленным как против государства, так и против элиты;
эти выступления и восстания, в конечном счете, порождают гражданскую войну.
«Брейкдаун» может завершиться изменением основных форм экономической
организации и собственности – то есть полномасштабной социальной революцией,
но, в теории, этого может и не произойти [7].
Наиболее существенным моментом
демографически-структурной теории является анализ того, как структура
«государство- элита-народ» реагирует на рост населения. В своем исследовании
Дж. Голдстоун обобщил материалы, полученные путем изучения
социально-политических кризисов XVII века в
Англии, Франции, Испании, Китае, Османской империи, а так же кризисов конца XVIII – XIX века во
Франции, Германии, Китае и Японии. Изучение обширного материала позволило
американскому исследователю сделать вывод о том, что рост населения является
главным фактором, приводящим сначала к кризису государства, а затем к
«брейкдауну», и иногда – к революции[8].
Описывая воздействие демографического
роста на основные элементы структуры, Дж. Голдстоун отмечает, прежде всего,
изменения в положении народа. Рост населения приводит к крестьянскому
малоземелью, росту цен и ренты, падению потребления, разорению крестьян,
миграциям в города, к безработице, нищете, неурожаям, продовольственным бунтам,
попыткам конфискации земель у помещиков[9].
Легко видеть, что выводы Голдстоуна в
этой части его исследования идентичны положениям неомальтузианской теории –
но Голдстоун усложняет эту теорию, обращая внимание на то, что демографический
рост приводил к резкому росту социальной дифференциации, к нелинейной реакции в
нижних слоях населения. Американский исследователь иллюстрирует эту реакцию на
следующем примере. Допустим, пишет Голдстоун, что в начальный момент 90%
населения имеет земельные участки, наследующиеся по принципу майората, а
остальные 10% составляют безземельные. Если допустить, что через какое-то время
население увеличится вдвое, то при этом численность безземельных возрастет не
вдвое, а в 11 раз, причем значительную часть не обеспеченного средствами
существования населения составит молодежь. Таким
образом, рост населения приводит к
резкому усилению социального расслоения и огромному увеличению численности
бедных и неимущих. Такая нелинейная реакция, утверждает Голдстоун, приводит
к тому, что социально-экономический кризис начинается задолго до того, как
образуется реальное перенаселение. Поэтому Голдстоун не рассматривает связи
между перенаселением, голодом и сокращением численности населения. Имеется еще
один пункт расхождения с классическим неомальтузианством: Дж. Голдстоун (вслед
за Р. Ли) считает, что вековые циклы имеют экзогенный характер и как рост, так
и уменьшение численности населения объясняется благоприятными или
неблагоприятными эпидемиологическими и климатическими изменениями[10].
Поэтому, в частности, Дж. Голдстоун формально не считает себя мальтузианцем,
полагая, что созданная им теория имеет новое качество[11]. Мы более подробно рассмотрим расхождения между
теорией Дж. Голдстоуна и неомальтузианством в пункте 4.3.
Переходя к влиянию демографического
роста на государство, Голдстоун констатирует, что происходящий одновременно
рост цен обесценивает государственные доходы, поэтому государство вынуждено
повышать денежные ставки налогов – тем более, что рост населения вызывает рост
расходов. С другой стороны, обедневшее население оказывается не в состоянии
платить налоги в требуемом размере – в результате государство постепенно
приближается к финансовому кризису, банкротству и потере управляемости[12].
Демографический рост влияет и на положение элиты. С одной стороны,
доходы элиты растут за счет роста земельной ренты, но с другой стороны рост
численности элиты приводит к резкому росту числа претендентов на статусные
позиции (например, на владение поместьем или занятие высокой должности). Число
претендентов растет в той же пропорции, в какой растет число безземельных, и
намного перекрывает рост доходов. К тому же значительное число статусных
должностей – это должности чиновников, а государство не может увеличивать свои
штаты ввиду финансового кризиса. В таких условиях происходит резкое расслоение
элиты, ее распад на отдельные фракции, вступающие в борьбу за статусные
позиции. Эта борьба ведется как внутри элиты, так и с государством, от которого
элита требует финансовой поддержки, то есть передела долей в распределении
поступающих от народа ресурсов. Наконец, возрастает и давление элиты на народ,
что вызывает резкое сопротивление со стороны обедневшего населения[13].
Таким образом, демографический рост
вызывает государственный кризис - значительная часть элиты и народа приходит к
убеждению, что государство не в состоянии эффективно контролировать
экономическую ситуацию и, тем более, защищать их интересы. Рост оппозиционных
настроений находит свое выражение в распространении неортодоксальных
религиозных и идеологических течений. Распространению диссидентства
способствует также и то обстоятельство, что находящееся в финансовом кризисе
государство не может в достаточной мере финансировать ортодоксальную церковь.
Вслед за финансовой опорой государства рушится и его идеологическая опора. В
этой ситуации конфликт между государством и элитой может привести к тому, что
оппозиционные фракции элиты призовут на помощь народ или просто откроют двери
народному восстанию. При этом, отмечает Голдстоун, народ имеет свои собственные
побуждения и импульсы, и его проще поднять на восстание, чем управлять им – он
легко может обратиться против элиты[14].
В итоге, бессилие государства, выступления элиты и народные восстания приводят
к гражданской войне и брейкдауну.
Дж. Голдстоун особо касается роли
внешних войн в разрушении государства – то есть роли того случайного фактора,
которому придают большое значение критики неомальтузианской концепции. Отвечая
тем историкам, которые придают главное значение в кризисе XVII века Тридцатилетней войне, а в объяснении русской
революции – Первой мировой войне Дж. Голдстоун указывает, что войны являются
обычным явлением истории, что в 1550-1815 годах в Европе было всего несколько
десятилетий без войн. Наибольшая интенсивность европейских войн приходится на
1688-1714 и 1800-1815 годы, но в это время не было никаких революций. Отсюда
следует, что война способствовала брейкдауну в периоды высокого демографического
давления, но не могла вызвать брейкдаун в периоды низкого давления[15].
Переходя к анализу революций XIX века, Голдстоун отмечает, что с индустриализацией
Западной Европы после 1850 года демографический рост уже не мог привести к
разрушению государства. Но Россия, Китай
и Оттоманская империя с их сохранившейся традиционной экономической,
политической и социальной структурой, остались уязвимыми к демографическому
давлению, которое продолжало нарастать в XIX веке и привело к брейкдауну в начале ХХ века[16].
Таким образом, Дж. Голдстоун утверждает,
что демографически-структурная теория применима для объяснения русской
революции начала XX века, но не
разрабатывает эту тему, которая, очевидно, требует особого исследования. Вопрос
о возможности применения демографически-структурной теории при изучении болеее
раннего периода истории России (XVI-XVII вв.) был впервые поставлен в работах Ч. Даннинга[17]. П. Турчин, в недавно вышедшей книге
«Историческая динамика»[18]
выделил несколько периодов демографического роста в России, в частности, с
конца XV века по
1570-е годы и с 1620-х годов по 1917 год, интерпретируя их как
демографически-структурные циклы. Книга
П. Турчина заслуживает внимания и в другом отношении: в ней делается попытка
построения имитационной модели, воплощающей основные положения
демографически-структурной теории. Таким
образом, было показано, что теория Дж. Голдстоуна (так же как и мальтузианская
теория) может быть описана в терминах экономико-математических моделей, что
существенно увеличивает ее прогностические возможности[19].
4.2
Фискально-демографическая модель
Демографически-структурная теория вводит в
рассмотрение новый структурный элемент – государство. В рамках этой теории
государство является одним из основных факторов, влияющим на поддержание
устойчивости экологической ниши и динамику населения. Важная роль государства
проявляется в том, что оно пресекает внутренние войны, поддерживает
социополитическую стабильность и обеспечивает необходимые условия для
производственной деятельности, а также способствует расширению производства,
например, путем создания ирригационных систем. Государственную мощь можно
сопоставить с объемом находящихся в распоряжении государства финансовых и
материальных ресурсов. Однако ограниченность пахотных площадей в аграрных обществах
ограничивает доходы населения и, следовательно, доходы государства. С другой
стороны, рост населения приводит к росту расходов, вследствие чего появляется
бюджетный дефицит и начинается финансовый кризис. В конечном счете государство
терпит банкротство, государственная мощь резко падает и государство теряет
способность поддерживать порядок. Потеря управляемости в условиях вызванного
ростом населения падения потребления и всеобщего недовольства приводит к
мятежам знати, народным восстаниям и длительным гражданским войнам. Численность
населения сокращается, но душевая обеспеченность землей и потребление
увеличиваются, поэтому внутренние войны постепенно стихают, государство
восстанавливается и снова начинает оказывать благотворное воздействие на производство
- начинается новый демографический цикл.
Хотя падение численности населения логически можно
объяснить как результат смуты, Дж. Голдстоун (вслед за Р. Ли) считал, что
демографические циклы имеют экзогенный характер и как рост, так и уменьшение
численности населения объясняется благоприятными или неблагоприятными
изменениями климата. Как отмечалось выше, такой подход приводил к тому, что Дж.
Голдстоун не считал себя неомальтузианцем[20].
П. Турчин[21]
предпринял попытку показать, что демографически-структурная теория не нуждается
в постулировании экзогенных воздействий, что в рамках этой теории
демографические циклы могут быть объяснены исходя из обычного мальтузианского
постулата о том, что темпы роста населения увеличиваются при увеличении
потребления и уменьшаются при его уменьшении, т. е. в действительности между
демографически-структурной теорией и неомальтузианством нет существенных
расхождений. «Фискально-демографическая модель», построенная П. Турчиным,
состояла из двух уравнений, первое из них – это обычное логистическое
уравнение:
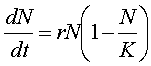
(1)
Второе уравнение описывало динамику «государственной
мощи» S:
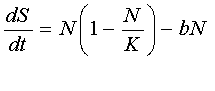 (3)
(3)
В
этом выражении уменьшаемое характеризует государственные доходы, а вычитаемое –
расходы, разность – это профицит годового бюджета, который добавляется к
капитализированной «государственной мощи» и может быть направлен, в частности,
на расширение экологической ниши путем увеличения продуктивности земель. К и
S связаны
соотношением
K = p+cS/(S+f)
где р –
«естественная» емкость экологической ниши в отсутствие государства и внутренних
войн, с и f - некоторые
положительные константы. Поскольку S отражает состояние
общества, то его можно трактовать также как параметр, характеризующий
социополитическую стабильность. В этой модели предполагается, что государство
собирает налоги в виде части «избыточного продукта», т.е. совокупного продукта
сверх того минимального уровня, который необходим для воспроизводства
численности крестьян (уменьшаемое в уравнении (3)). Такая ситуация не всегда
соответствует налоговой практике аграрных обществ, поэтому после обсуждения
этого вопроса с П. Турчиным, мы вместе построили модифицированную модель, в
которой предполагается, что государство взимает часть не избыточного, а всего
совокупного продукта, не взирая на то, хватит ли того, что остается крестьянам,
для простого воспроизводства их численности. Таким образом, в данной модели
возможно состояние дел, при котором жесткая налоговая политика государства
приводит к сокращению численности народа. Далее, в базовой
фискально-демографической модели Турчина S не может
быть отрицательным, то есть не учитывалась возможность крайней социополитической
нестабильности, при которой внутренние беспорядки вызывают сокращение емкости
экологической ниши ниже, чем ее естественный уровень. В данной модели учтена
эта возможность. Мы будем полагать,
что государственная мощь описывается не уравнением (3), а уравнением
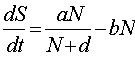
(3a)
где уменьшаемое соответствует государственным доходам,
а вычитаемое – военным и полицейским расходам. dS/dt, таким
образом, представляет собой приращение капитала, которое можно потратить на
экономические нужды. В аграрных государствах налог обычно берется с пахотной
площади, которая ограничена и, увеличиваясь с ростом населения, стремится к
некоторой асимптоте, то есть изменяется примерно как N/(N+d); коэффициент изъятия ресурсов a показывает, что налоги пропорциональны пахотной площади; что касается расходов, то они, как и раньше, считаются
пропорциональными численности населения. Емкость экологической ниши,
соответственно, вычисляется по формуле
K = p-a +cS/(S+f).
Таким образом, в модифицированной модели
мы рассматриваем систему дифференциальных уравнений (1)-(3а). Мы переобозначим
коэффициенты в (3а), введя параметр l = a/d. Этот параметр имеет реальный смысл, можно показать,
что l – это
душевая налоговая нагрузка при малой численности населения. Таким образом,
уравнение (3) принимает вид
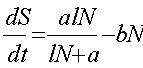
(3b)
Можно показать, что фазовая плоскость (N, S) этой
системы делится прямыми S = S1 =
-(p-a)/(p-a+c)f и N=0 на четыре
области (четверти), причем решения из верхней правой четверти G (которые
только и имеют физический смысл) не пересекают указанные прямые, то есть всегда
S> S1, а так как S1 >-f, то знаменатель в формуле для К не обращается в ноль.
Система имеет положение равновесия (N0, S0),
(4) N0=a/b-a/l, S0=(N0
- (p-a))f/(c+(p-a) - N0)
Условия N0>0,
S0>0
приводят к требованию
(5) N1 =
(p-a) < N0 < (p-a)+c = N2
Обычные методы исследования динамических систем
позволяют установить, что система (1)-(2) имеет характеристическое уравнение ![]() λ2 +rλ +q = 0, где
λ2 +rλ +q = 0, где
(6) q = rN0b2(N2 -
N0)2/acf.
Дискриминант
этого уравнения равен D = r2/4
– q. При этом возможны два случая.
1). Если q > r2/4,
то D<0, характеристические
числа комплексные и равны λ1,2
= - r/2 ± i√(-D). Положение равновесия (N0, S0) в этом случае является так называемым «устойчивым
фокусом» – вокруг этого положения равновесия происходят постепенно затухающие
колебания (рис. 21 и 22) Скорость уменьшения амплитуды колебаний
пропорциональна exp(-rt/2), а период колебаний стремится к величине
T = 2π/√ (-D), то есть с увеличением величины q период
становится меньше – колебания
усиливаются. Как и в модели пункта 2.1 причиной колебаний является
запаздывающая реакция населения на сокращение экологической ниши.
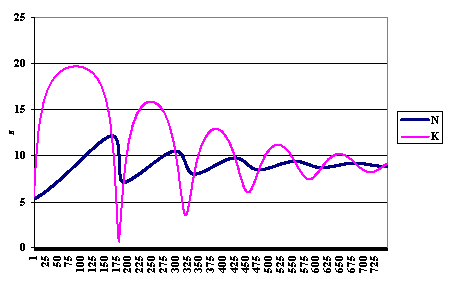
Рис. 21.
Пример поведения решения в случае D<0 (r=0.01; p=10; a=3; b=0,3; l=3, c=17, f=15).
2). Если q < r2/4,
то D>0. Так как в
(5) N0 >0,
то q >0 и D<r2/4, поэтому
характеристические числа λ1,2
= - r/2 ± √D отрицательны.
Это значит, что положение равновесия – так называемый «устойчивый узел»,
решения стремятся к этому положению асимптотически, без колебаний.
Существование устойчивого равновесия,
при котором население и мощь государства позитивны—новый тип динамического
поведения, не наблюдаемый в базовой модели, в которой единственная возможная
точка равновесия характеризуется отсутствием государства (S0 =0,
N0 =
p-a).
Можно проанализировать влияние отдельных
параметров на поведение системы. Если мы будем менять параметр l, то при уменьшении l величина N0 ,
уменьшаясь, будет стремиться к N1, q будет
возрастать и, следовательно, колебания будут усиливаться, а S0 (как видно
из (4)) будет стремится к 0. Это
соответствует дестабилизации обстановки и уменьшению «равновесного» населения N0 при уменьшении «равновесной»
государственной мощи S0. Когда S0 близко к нулю, фазовые траектории в
своей нижней части заходят в область S<0, что означает периодические внутренние
войны и нестабильность (рис. 22). При дальнейшем уменьшении l N0 становится меньше N1, но остается пока положительным, в этом случае S1 <S0 <
0, то есть положение равновесия остается в области G, но S0 отрицательно.
Реально это означает, что равновесие теперь
достигается в «безгосударственной» обстановке войн и смут. При приближении N0 к нулю q также
стремится к нулю, поэтому колебания постепенно стихают, а затем прекращаются.
Положение равновесия (N0, S0) стремится к
точке (0, S1) и когда, с
уменьшением l, N0 становится равным 0, сливается с этой
точкой. Фазовые траектории теперь асимптотически стремятся к этой точке, а N (t)
асимптотически стремится к 0, то есть
в случае, когда параметр l становится таким, что N0 ≤
0, население вымирает – происходит катастрофа.
Если l возрастает,
то N0 также возрастет и (если a/b> N2) стремится к N2, при этом q (как видно
из (6)) убывает и колебания ослабевают, а затем q становится
меньше r2/4,
и колебания прекращаются. S0 при этом возрастает и, таким образом,
повышение уровня «государственной мощи» S0 приводит к «успокоению» и росту
«равновесного» населения N0. Однако,
если N0 переходит границу N2, то ситуация меняется: как видно из (4)
S0 становится
большим отрицательным числом, и положение равновесия (N0, S0) исчезает из области G. В новой ситуации S(t) с течением
времени неограниченно возрастает, а N(t) стремится к
асимптоте N(t)= N2. Таким образом, рост «государственной мощи» больше не
приводит к существенному росту населения.
Параметр l характеризует
душевую налоговую нагрузку (при малой плотности населения). Чем больше
налоговая нагрузка, тем больше «государственная экономическая мощь». Слабость
же государства оборачивается усилением нестабильности.
Параметр f
характеризует скорость реакции экологической ниши на усиление или ослабление
государства, чем больше f, тем слабее
эта реакция. Изменение f не влияет на N0 , но, как видно из (4) и (6), увеличение
f вызывает
увеличение S0 и уменьшение величины q, в этом
случае колебания затухают и прекращаются. При уменьшении f колебания
усиливаются, S0 уменьшается
(но остается положительным), при этом некоторые фазовые траектории заходят в
область S<0, что означает внутренние войны. Таким
образом, чем медленнее реагирует экологическая ниша на изменение S, тем
стабильнее ситуация, и при очень слабой реакции колебаний не наблюдается.
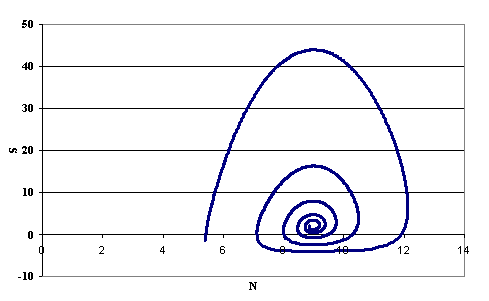
Рис. 22.
Фазовая траектория (N(t), S(t)) (значения параметров те же, что и на рис. 21)
Параметр с характеризует силу влияния государства на изменение экологической
ниши, так же как f, он не
влияет на N0, но влияет на S0 и q. При
увеличении с S0 уменьшается (но остается положительным),
величина q возрастает
и колебания усиливаются. При этом фазовые траектории в своей нижней части
заходят в область S<0, что, как
отмечалось выше, означает периодические внутренние войны (рис. 30). Такая
ситуация, вероятно, была характерна для стран, в которых государство создавало
и поддерживало крупные ирригационные системы, и где разрушение этих систем в
результате ослабления государства приводило к
голоду и гражданским войнам (например, для Китая).
Параметр b
характеризует степень зависимости военных и полицейских расходов от численности
населения. При увеличении b N0 и S0 уменьшаются,
колебания усиливаются, и как описано выше, может произойти катастрофа. В
истории известно много случаев, когда увеличение военных расходов приводило к
социально-политическим кризисам, голоду и уменьшению численности населения. При
уменьшении военных расходов N0 и S0 увеличиваются,
но N0 возрастает
лишь до определенного предела N2, после
которого уменьшение военных расходов уже не приводит к росту населения.
Параметр а характеризует объем извлекаемых из населения ресурсов. При
уменьшении а N0 и S0 уменьшаются, колебания усиливаются, а
при дальнейшем сокращении налогов государство слабеет и может произойти
катастрофа. При увеличении а N0 и S0 увеличиваются, однако одновременно
уменьшается N2, и очень
скоро наступает момент, когда N0 становится
больше N2 и рост налогов останавливает рост
населения, которое стремится к асимптоте N(t)= N2. При дальнейшем росте a асимптота N2 понижается, то есть население
сокращается.
Таким образом, исследование системы
(1)-(3b)
показывает, что в демографически-структурной модели возможны как
асимптотические решения, так и колебательные процессы, однако колебательные
процессы, в целом, более типичны.
Рассмотренная выше
демографически-фискальная модель относительно проста и благодаря этому
допускает возможнось аналитического исследования поведения решений. Однако она
не учитывет некоторые важные детали функционирования структуры «государство-элита-народ».
Фактически не рассматривается комплекс вопросов, связанный с наличием элиты: ее
численная динамика и взаимодействие с другими элементами структуры. Не
рассматриваются также и вопросы, связанные с перераспределением ресурсов в ходе
цикла (например, с ростом налогов). Включение в модель соответствующих
переменных значительно усложняет ситуацию, и мы лишаемся возможности аналитического представления модели;
становится невозможным ее качественное исследование методами теории дифференциальных уравнений.
Более полное исследование можно провести
лишь с помощью итерационной модели, подобной той, которая рассматривалась в пункте
2.2. Ниже мы предлагаем вариант такой модели (как и предыдущая модель, она
построена в сотрудничестве с П. Турчиным).
Для удобства мы будем рассматривать не
календарные, а хозяйственные годы, которые начинаются со сбора урожая.
Первоначально в рассмотрение берется только численность простого народа,
численность элиты, получающей средства за счет налогов (или ренты) не
учитывается. Численность народа (N),
выражается в числе дворов или семей (условно можно считать населенность двора в
5 человек). Крестьянский двор, в теории (то есть, когда хватает земли),
обрабатывает стандартный участок земли (такой участок назывался на Ближнем
Востоке «чифт»), и максимально возможную площадь пахотных земель мы будем
измерять числом стандартных участков S.
Когда численность дворов N превосходит S, на некоторых участках
может разместиться два двора или часть семей может переселиться в города и
зарабатывать на жизнь ремеслом, обменивая свои изделия на крестьянские излишки.
Пусть а – урожайность, выраженная числом минимальных семейных пайков
зерна, которые можно собрать со стандартного участка. Норма потребления зависит
от климатических условий, например, для Малой Азии и Балкан исследователи
принимают норму душевого потребления примерно в
Урожайность не является постоянной
величиной, поэтому мы зададим ее в виде a=a0+d,
где a0 – средняя
урожайность, d – случайная величина,
принимающая значения на отрезке (-а1,
а1). Примерно оценить величину
разброса урожайности (а1)
можно, обратившись к российской урожайной статистике. За период 1850-1909 гг.
отношение урожая текущего года к среднему десятилетнему варьировало в пределах
от 0,62 до1,3 [25], то есть отношение va =а1/a0
составляло примерно 0,4
(если a0 =2, то а1=0,8). Распределение
отклонений на отрезке (0,62; 1,3), конечно, не было равномерным. Урожай в
пределах от 0,6 до 0,8 среднего
наблюдался в течение 9 лет из 60, то есть вероятность низкого урожая составляло
примерно 15%. Если в качестве случайной величины взять квадрат равномерного
распределения на отрезке (0,6; 1,4), то вероятность низкого урожая составит
12,5%, что примерно соответствует российскому случаю.
Разумеется, в некоторых случаях
отношение va могло быть
больше или меньше 0,4. Например, для средневекового Египта разброс урожайности
составлял 60% к среднему урожаю[26] .
При принятых нами единицах
измерения урожай Y можно выразить в простой форме:
Y=aN если N<S,
Y=aS eсли N>S.
С урожая берется налог в m процентов, и после его вычета у
крестьян остается (1-m)Y пайков, и на
семью приходится p1 = (1-m)Y/N пайков. Если имеются излишки, то есть p1 больше некоторой величины
«удовлетворительного потребления» p2
(p2>1), то крестьяне потребляют не все это зерно, откладывая pn процентов в запас, то есть
потребление p равно
p=p1(1- pn) если p1>p2
В расчетах обычно берется p2 =1,2 и pn =0,05, а при р1
больше 1,4 pn=0,1 , то есть крестьяне откладывают при среднем
урожае 5%, а при большом - 10% урожая. Нужно
отметить, однако, что в силу условий хранения крестьянские запасы не могут
увеличиваться до бесконечности, и ограничены некоторой величиной Fp. В расчетах принимается Fp = 4, то есть крестьяне могут хранить запас в 4 годовых пайка для
каждого члена семьи.
Если
потребление падает ниже уровня p3,
(в расчетах p3=1,1) то
крестьяне берут зерно из запасов, поднимая, по возможности, потребление до уровня
p3. Если же крестьянские
запасы иссякают и в годы голода потребление оказывается меньше нормы (p1<1), то государство, в
некоторых случаях, помогает крестьянам из своих запасов. Однако в силу
инертности государство оказывает помощь, когда голод уже начался, и потребление
при этом поддерживается на уровне p1k,
меньшем единицы (т. е. минимальной нормы). Однако создание государственных
амбаров для помощи крестьянам практиковалось не во всех странах; во многих
случаях крестьянам приходилось рассчитывать на собственные силы (p1k=0).
Коэффициент роста населения r есть отношение населения последующего
года к населению предыдущего года. Коэффициент роста r зависит от потребления. Когда потребление равно минимальной норме
(p=1), население остается постоянным
(r=1). Максимальный естественный рост
обозначим rm, а величину
потребления, при которой он достигается – pm.
Мы полагаем rm =1,02, то
есть максимальное увеличение численности населения составляет 2% в год. Мы
будем считать, что при 1<p<pm
рост населения линейно зависит от потребления, а при p>pm уже не увеличивается (r=rm). При p<1
(в случае голода) зависимость r от p берется в форме r=pk, где k –
некоторый коэффициент. В данном случае имеет место сокращение населения, причем
не только из-за голода, но и по причине распространения эпидемий, вызванных
ослаблением сопротивляемости организма в результате голодовок. Если брать
коэффициент k равным единице, то
получится, что число выживших равно числу наличных минимальных пищевых норм. На
практике, однако, известно, что люди выживали и при недостаточном питании,
поэтому в наших расчетах обычно берется k =1/4; при таком значении параметра при
падении потребления наполовину погибает 16% населения.
Доходы государства в обычное время равны
m процентов от урожая, причем мы считаем, что в
налоги входит и рента, которая в государствах Востока была той частью налога,
которая шла воину, получившему поместье. В годы кризиса налоги не могут
собираться полностью, в этом случае они уменьшаются в соответствии с величиной
коэффициента стабильности kp предыдущего
года (см. ниже) и равны kpm. В принципе, ставка налогов m
может меняться, и мы рассмотрим этот вопрос в дальнейшем.
При распределении поступлений от налогов
основная часть достается военной элите, а запасы формируются из оставшихся
сумм. При численности войска Nf
и норме содержания воина pf, войско требует расходов
E= Nf pf. Если
доходы, равные S= mY, превосходят расходы, то kd процентов от излишка ds= S-E откладывается в запас, а остальная
часть расходуется на увеличение войска. Если же расходы превосходят доходы, то
необходимые средства берутся из запаса; если казна пуста, то содержание каждого
воина уменьшается и реально равно pr=
S/Nf.
При уменьшении содержания постепенно уменьшается и численность войска, она
зависит от величины pg среднего
содержания за ng лет и
равна Nf = (pg/pf)ksNf-1, где ks
– некоторый коэффициент, который
характеризует способность государства сокращать армию. Если содержание
падает наполовину, то при ks=0,2 армия сокращается в год на 13%, если же ks=0,02, то только на 2,5%. Последний случай
соответствует ситуации феодального войска, которое представляет собой вассалов
короля; вассалов нельзя уволить со службы, и сокращение такой элиты возможно только
в результате внутренней войны. Срок, для которого рассчитывается среднее
содержание, принимается равным десяти годам.
Уменьшение содержания военной элиты
вызывает смуты. Интенсивность смут измеряется коэффициентом государственной
стабильности kg, который зависит от средней величины содержания pg и имеет вид
kg = (pg
/pf)u(kg-1)v(kp)w
Коэффициент kg меняется от 0 (хаос) до 1 (полная
стабильность) и зависит также от величины стабильности в предыдущий год kg-1 и от стабильности среди простого народа kp. Величины u, v и w в этой формуле – степени порядка 0,1-0,3; их значение состоит в том,
чтобы амортизировать влияние pg ,
kg-1 и kp.
Если финансовый кризис ликвидирован, то при v
=1/4 коэффициент стабильности за три
года возрастает с 0,5 до 0,99. При w = 0,1 нестабильность в народе уровня 0,8 вызывает нестабильность в элите уровня 0,97, то есть крупное крестьянское восстание порождает небольшие
военные мятежи. Величина u в расчетах принимается равной 1/4; при этом значении параметра
половинное сокращение содержания вызывает нестабильность порядка 0,84. При этом (как и при определении
периода среднего содержания) мы исходим
из того обстоятельства, что воины, в отличие от крестьян, при сокращении
содержания не голодают и поэтому могут выдерживать такое положение долгое
время.
В конечном счете, политическая
нестабильность приводит к нарушению хозяйственной деятельности, к падению
урожайности и сокращению посевных площадей. Мы будем условно считать, что стандартные
крестьянские участки остаются прежними, включая эффект их сокращения в общее
падение урожайности. Величина падения урожайности зависит от коэффициента kg.
Другой источник нестабильности – это
голод, который приводит к крестьянским восстаниям и нарушению обычного хода
хозяйственной жизни, например, по причине отсутствия зерна для посева. В конечном счете, эти
факторы также ведут к падению урожаев. Коэффициент уменьшения урожайности из-за голода и крестьянских
восстаний зависит от средней величины потребления (pnp) за несколько
(np) лет, причем величина
потребления за последний год входит в это усреднение с двойным весом. Мы будем
считать, что эта зависимость степенная и имеет вид kp = (pnp)l(kg)v(kp-1)w
где l – некоторый параметр. В
расчетах обычно берется среднее потребление за два года, а l=3, то есть население достаточно эмоционально реагирует на голод.
Коэффициент kp является
также мерой стабильности в среде простого народа, он меняется от 0 до 1
и зависит от стабильности в предыдущий год kp-1 и стабильности в среде
элиты kg .
Общее падение урожаев из-за политической
нестабильности дается коэффициентом kgp= kgkp, однако в
любом случае урожайность не может упасть до нуля, поэтому мы ограничиваем
величину этого падения коэффициентом kgp0.
Какова может быть величина kgp0? Сведений об урожаях в
годы кризисов немного, но известно, например, что урожай 1922 года в СССР был
на 32% меньше, чем средний урожай 1925-1929 годов[27].
Собственно урожайность при этом уменьшилась незначительно (на 3,8%), но сильно
сократились посевные площади[28]
что позволяет утверждать, что падение урожаев было, в основном, результатом
предшествующего политического кризиса. Мы будем ориентировочно считать, что
средняя урожайность a0 (куда
в нашем случае входит и уменьшение посевных площадей) в годы кризисов может
максимально сократиться на треть.
Мятежи военной элиты и крестьянские
восстания приводят не только к разрушению хозяйства, но и непосредственно к
гибели участвующего в конфликте населения. Мы будем полагать, что процент
населения, ставшего жертвой конфликта, выражается формулой Mn= lg(1-kg)+ lp(1-kp)
, где lg и lp – некоторые параметры.
В расчетах обычно принимается lg=0,01
и lp=0,02, что может приводить к ежегодному уменьшению населения
в годы кризиса на 2%.
В реальной истории, хотя налоги
формально фиксировались, они имели скрытую тенденцию к повышению: побуждаемое
финансовым кризисом правительство было вынуждено вводить различные
«чрезвычайные» сборы, или владельцы поместий требовали с крестьян «незаконные»
надбавки. Этот процесс непосредственно стимулировался военными мятежами, когда
разбухшее войско протестовало против сокращения своего содержания. С другой
стороны, крестьянские восстания в ходе
глобальных кризисов заставляли государство снижать налоги; таким образом,
величина налогов, в конечном счете, определялась тем двусторонним давлением,
которое оказывали на государство военная элита и народ, и которое в нашей
модели выражается, соответственно, коэффициентами стабильности kg
и kp. Мы будем
полагать, что уровень налогов ml
определяется по формуле
ml = ml-1 kp /(kg)s
где ml-1
– уровень налогов предыдущего года
и s - некоторый параметр. Если ситуация
стабильна, то kg= kp=1
и уровень налогов не меняется. Военные
мятежи (kg<1) заставляют
правительство повышать налоги; восстания (kp<1)
приводят к уменьшению налогов. В периоды кризисов, когда оба коэффициента
меньше 1, ситуация определяется взаимным соотношением kg и kp, для
регулирования которого используется параметр s. s выбирается так,
чтобы силы народа и элиты были сбалансированы и средняя величина налогов не
менялась значительно от цикла к циклу – то есть нашей целью является
рассмотрение относительно стабильных систем, не эволюционирующих в социальном
отношении. При этом предполагается, что налоги не могут быть снижены ниже
некоторой величины m1,
определяемой потребностями обороны государства и не могут быть повышены выше величины m2, определяемой платежноспособностью крестьянина. В
наших расчетах m1=0,1, m2=0,4.
Перейдем к описанию численных
экспериментов. Как отмечалось выше, нашей главной целью было изучение изменения
динамики населения и хода кризиса в зависимости от влияния различных
параметров. В наших расчетах мы условно брали площадь пахотных земель S в 1
млн. стандартных крестьянских участков. Средняя урожайность a0 =2, то есть в отсутствии
перенаселения одна крестьянская семья в среднем имела чистый сбор зерна в два
минимальных пайка. Разброс урожая
составлял от 1,2 до 2,8, а случайная величина разброса была квадратом
равномерного распределения. Величина государственных запасов ограничена
годовым пайком минимальным пайком на семью; максимальное потребление крестьян pm =2,5 минимальной нормы. Норма потребления на элитную семью
составляла восемь минимальных крестьянских норм. Начальная численность для
простого народа берется в 0,9 млн.
дворов.
Известно, что в Османской империи в XVI
веке налоги составляли 1/6-1/5
урожая[29]. Мы возьмем
первоначальный уровень налогов в 20% и будем полагать, что государство (как
Османская империя) является достаточно сильным: оно способно отчислять в резерв
90% (kd =0,9) от профицита бюджета, и в случае
необходимости сокращать армию на 13% в год (ks=0,2).
В Османской империи, в Китае и в
некоторых других странах существовала система государственных зерновых
складов, из которых население могло в случае голода получать продовольственные
ссуды[30]. Рассмотрим сначала
случай, когда при голоде государство оказывает помощь крестьянам, поднимая
величину потребления до 0,99
минимальной нормы. Так как в расчетах присутствует случайная величина,
урожайность, то при различных прогонах программы результаты расчетов могут
различаться, но в целом получается достаточно типичная картина.
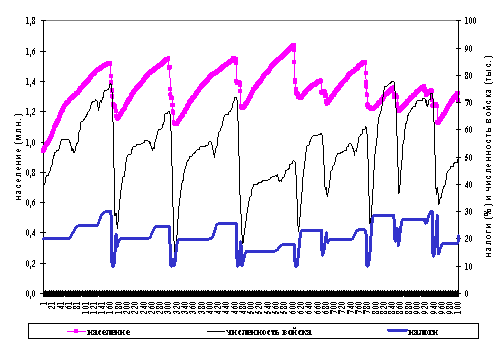
Рис. 23. Динамика численности населения в
млн. дворов. Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 20%, kd
=0,9, ks=0,2, s=0,6.
Как видно из рис. 23, при данных значениях параметров
наиболее типичными являются циклы
продолжительностью примерно в полтора столетия, демографическая катастрофа
происходит при приближении к потолку населения в 1,6 млн., и численность
населения падает до 1,1-1,2 млн.
Как отмечалось выше, в этом и во всех
последующих случаях параметр s
подбирается так, чтобы средние налоги на протяжении циклов были примерно одинаковы.
Тем не менее, они могут варьировать в
определенных пределах. Как видно из рис. 23 на протяжении цикла налоги, как
правило, растут: время от времени казна оказывается пустой и вынуждена
уменьшать содержание войска, что сопровождается его сокращением. Недовольная
военная элита поднимает мятежи, и в итоге, правительство вынуждено увеличивать
налоги – ситуация, многократно наблюдавшаяся в истории разных стран. Те циклы,
в которых уровень налогов ниже, имеют большую продолжительность, при высоких
налогах циклы, соответственно, становятся короче, а потолок населения – ниже.
Численность элиты пропорциональна величине налогов (ренты), и особенно велика
в коротких циклах: причиной малой
продолжительности этих циклов является чрезмерное давление элиты на народ. П.
Турчин обратил внимание на то обстоятельство, что в средневековой истории
Северной Африки преобладали именно такие короткие циклы[31].
Недавно А. В. Коротаев и Д. А.
Халтурина предложили математическую
модель этого явления для Египта, при этом авторами было показано, что население
этой страны в то время не достигало потолка емкости среды[32].
Как нам представляется, эта специфика может быть объяснена из предлагаемой нами
модели, если учитывать существовавший в Египте высокий уровень налогов.
В конечном счете, перенаселение в
условиях роста налогов приводит к кризису, механизм которого более подробно
изображен на рис. 24.
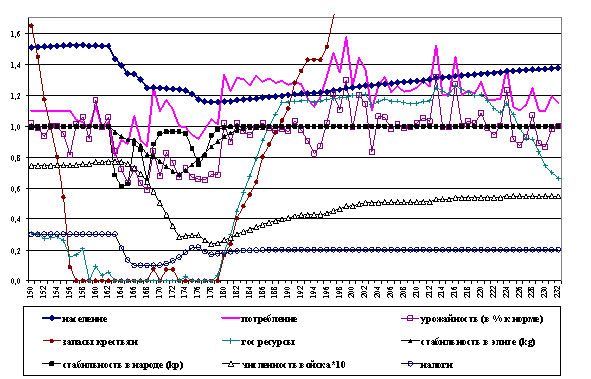
Рис. 24.
Механизм демо-популяционного кризиса.
Как видно из рис. 24, в 150-х годах крестьяне жили в
условиях перенаселения, им приходилось использовать зерно из своих запасов, и
эти запасы быстро уменьшались. В 157 году запасы иссякли, и крестьяне стали
обращаться за поддержкой к государству, но государственных запасов хватило
ненадолго, к 163 году они закончились. В
этих условиях большой неурожай 163 года сразу же вызвал голод и крестьянское
восстание. Это негативно повлияло на хозяйственную жизнь и в следующем, 164
году, снова был большой неурожай, который усилил голод и восстания. С другой
стороны, недобор налогов вызвал сокращение содержания войска и стимулировал
военные мятежи. К 169 году население
значительно сократилось, а налоги уменьшились вдвое, поэтому (хотя из-за
гражданской войны урожаи оставались плохими) душевое потребление увеличилось и
превысило норму. Восстания почти прекратились, но из-за уменьшения налогов и
сокращения населения доходы военной элиты резко уменьшились, и она продолжала
бунтовать. Внутренняя война привела к новому голоду и новой вспышке восстаний в
173–177 годах, но, в конечном счете, численность военной элиты сократилась и
государству стало легче ее содержать. С другой стороны, военные мятежи убедили
правителей в необходимости восстановить налоговую систему и увеличить налоги.
(хотя они не достигли прежнего уровня). В 180 году у крестьян и казны появились
небольшие запасы; вскоре после этого военные мятежи закончились.
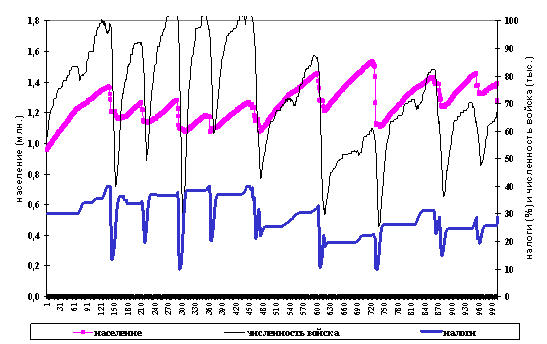
Рис. 25. Вариант
расчета с первоначальным уровнем налогов в 30%, kd =0,9, ks=0,2, s=0,55.
В описанной модели кризиса главным моментом является перенаселение,
которое вызывает сначала истощение запасов крестьян, а потом – запасов
государства. В этой ситуации неурожаи вызывают
крестьянскую войну, а финансовый кризис провоцирует военные мятежи.
Рассмотрим теперь вопрос о том, какие
изменения в динамике населения могут произойти при вариации различных
параметров. Увеличим первоначальный налог до 30% урожая. Демографическая
динамика, моделируемая в этом случае, изображена на рис. 25. Расчеты
показывают, что потолок населения и среднее население (за 1000 лет) снизились,
уменьшились средние крестьянские запасы, но возросли государственные запасы и
численность войска. Немного понизилось среднее потребление, циклы стали более
короткими, а их амплитуда уменьшилась. Эти тенденции сохраняются и при дальнейшем
увеличении налогов. При 40-процентных
налогах (рис. 26) можно говорить о некоей квазистабильности: кризисы становятся
менее заметными и уносят порядка 10 % населения. В то же время уменьшение
крестьянских запасов приводит к тому, что крестьяне часто испытывают нехватку
зерна и обращаются к помощи государства даже на ранних стадиях цикла.
Вследствие этого кривая населения становится неровной, вибрирующей.
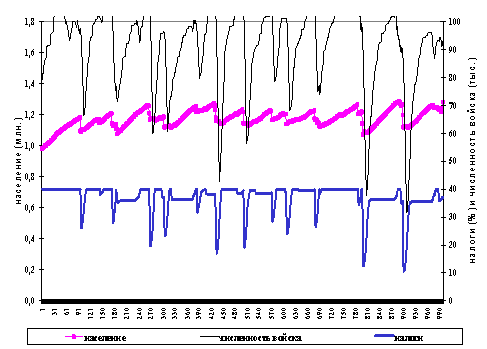
Рис. 26.
Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 40%,
kd =0,9,
ks=0,2, s=0,55.
Этот результат
– относительная стабильность при повышении налогов кажется парадоксальным.
Однако необходимо отметить, что он достижим только в условиях сильного
государства, которое может отчислять в резерв 90% излишка и сокращать военную
элиту, попросту распуская наемное войско.
Если же государство слабеет, то картина
меняется. Это проявляется, прежде всего, в том, что элита требует большей доли
налогов (ренты) и в невозможности быстро сократить войска. Как показывают
расчеты, увеличение доли элиты и сокращение отчислений в резерв приводит к
тому, что казна не имеет значительных ресурсов для того, чтобы обеспечить
стабильное снабжение войска, военная элита постоянно поднимает мятежи, в
результате чего налоги (рента) быстро увеличиваются. При этом картина коротких
циклов с малой амплитудой сохраняется.
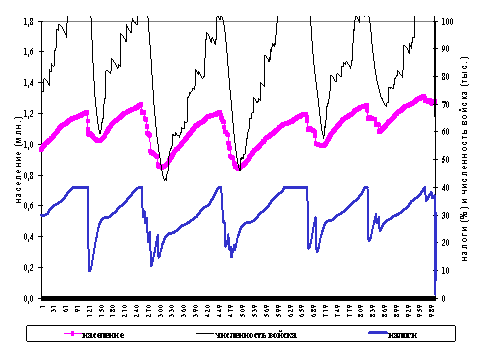
Рис. 27. Вариант расчета с первоначальным уровнем
налогов в 30%. kd =0,9, ks=0,02, s=0,2.
Картина меняется, если государство слабеет настолько,
что не может свободно сокращать войска, то есть они принимают отчасти
феодальный характер. В случае, изображенном на рис. 27 ks=0,02, и при понижении содержания наполовину от нормы
военная элита уменьшается за год только на 2,5%. В этом случае «несокращаемая»
элита своими мятежами оказывает постоянное давление на государство и заставляет
его повышать налоги до максимума. Большие налоги (рента) существенно понижают
потолок населения, но позволяют увеличить численность элиты. На рис. 28 более
подробно представлен механизм кризиса, реализуемый моделью в данном случае. Из
графика видно, что период перед кризисом характеризовался хроническим
отсутствием государственных ресурсов, следствием чего были постоянные мятежи
знати, с успехом добивавшейся увеличения ренты-налога. Мятежи привели к
уменьшению урожаев и быстрому исчерпанию
крестьянских запасов, еще до того, как экологическая ниша была заполнена. В 456
году начался голод, следствием которого были крестьянские восстания. Восстания
привели к уменьшению ренты, что еще более ухудшило положение элиты и отдельные
мятежи переросли в гражданскую войну. Поскольку численность элиты снижалась
очень медленно, то внутренние войны затянулись на 70 лет; потери в войнах
уменьшали численность населения, поэтому оно не росло. Этот период – так
называемый «интерцикл» или «фаза депрессии» - может быть и более длительным; он наблюдался в реальной истории
многих европейских стран. В работах П. Турчина показано, что интерцикл
порождается ситуацией политической нестабильности, то есть внутренними войнами
и усобицами, которые препятствуют росту населения[33].
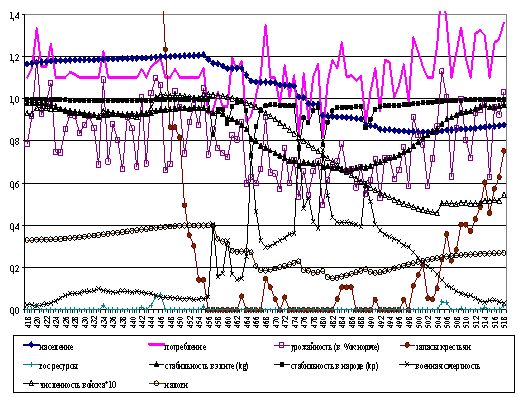
Рис. 28.
Элитно-популяционный кризис и интерцикл.
Описанный выше тип кризиса отличается от
рассмотренного ранее (рис. 24) тем, что элитные мятежи вызывают разрушение
хозяйства и голод приходит еще до момента реального заполнения экологической ниши.
Тем не менее, и в этом случае главной причиной кризиса является рост населения,
который приводит к уменьшению крестьянских наделов и к тому, что крестьяне не
могут обеспечить ресурсами войско. Таким образом, мы имеет два типа кризисов, в
первом из которых инициирующую роль играет народ, а во втором – военная элита,
и которые можно назвать соответственно «демо-популяционнным» и
«элитно-популяционным». В реальной истории эти два типа кризисов встречаются
достаточно часто. Демо-популяционный характер имело большинство китайских
кризисов, в частности, «восстание
красных бровей», «восстание желтых повязок», восстание Ли Цзы-чена, восстание
Хуан Чао, восстание тайпинов. Элитно-популяционный
характер имел кризис, связанный с мятежом Ань Лу-шаня, османский кризис
1595-1605 годов (восстание Кара Языджи), кризис Империи Великих Моголов в
1710-20-х годах.
В случае, когда государство слабо и не
может создавать значительные ресурсы, оно не способно оказывать помощь
крестьянам, поэтому формальное существование системы для оказания такой помощи
не имеет существенного значения. Разница может оказаться существенной только в
случае сильного государства, который рассмотрен ранее, но в действительности, она трудно ощутима даже
для случая, который изображен на рис. 1 и лишь при детальном рассмотрении
удается установить, что при оказании помощи цикл немного продлевается за счет
того, что в период перед кризисом крестьяне несколько лет спасаются от голода
субсидиями казны (см. рис. 2). При увеличении ресурсов государства такие
периоды, естественно, становятся более продолжительными.
Подводя итоги, можно отметить, что, как
показывает модельный анализ, наиболее стабильными являются государства,
создающие большие резервы путем значительных отчислений от налоговых
поступлений. Эти отчисления одновременно
уменьшают долю элиты в совокупной ренте, и тем самым ее численность. Появляется
возможность удовлетворить военное сословие и избежать опасности военных
мятежей. Одновременно появляется возможность оказывать помощь крестьянам в случае
голода и проводить ирригационные работы. Примеры такой политики дают Япония
эпохи Токугава, Египет при тюркских мамлюках
(середина XIII-середина XIV века), династии Старшая Хань и Мин в Китае,
Османская империя в XV-XVI веках, Византия эпохи Македонской династии. Это – политика сильных автократических
государств, держащих в узде военную элиту.
Неспособность аккумулировать средства
является оборотной стороной неспособности сдерживать каждодневные финансовые претензии
элиты. Это приводит к тому, что государство не может удовлетворить требования
войска в годы временных трудностей, что ведет к мятежам военного сословия.
Мятежи, в свою очередь, вызывают рост налогов, что влечет голод и восстания.
Бесконтрольная раздача икта в империи Сельджукидов в XI веке и в Египте в XII
веке привела к резкому росту ренты и демографическим катастрофам.
В целом, эти выводы совпадают с
выводами, сделанными нами при анализе поведения модели, описывающей механизм
цикла в первом приближении.
Проведенный анализ позволил выделить два
типа завершающих цикл экосоциальных
кризисов и показать их общее происхождение. Это помогает прояснить некоторые
спорные вопросы теоретической истории. Например, на протяжении долгого времени
среди историков шла полемика о том, какова была природа кризиса 1595-1605 годов
в Османской империи[34]
– был ли это кризис перенаселения или военный мятеж? В данном случае
выясняется, что военные мятежи типа восстания Кара Языджи являются одним
из вариантов кризисов перенаселения
постольку, поскольку «элитно-популяционные» и «демо-популяционные» кризисы
описываются одним и тем же алгоритмом.
В
конечном счете, результат моделирования приводит к выводу, что цикличность
заложена в самой природе демографически-структурной модели и предположение Дж.
Голдстоуна об экзогенных воздействиях оказывается излишним.
4.3 Критика и
модификация демографически-структурной теории
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости
модификации демографически-структурной теории путем изменения некоторых ее
положений. В этой связи необходимо напомнить о расхождениях между теорией Дж.
Голдстоуна и классическим неомальтузианством (см. п. 4.1). Эти расхождения
касаются принципиальных моментов. Во-первых, признавая ухудшение положения народных
масс по мере роста населения, Дж. Голдстоун отрицает фундаментальное
мальтузианское положение о том, что величина естественного прироста,
рождаемости и смертности в основном определяется уровнем потребления. Во-вторых, Дж. Годстоун полагает, что темпы
естественного прироста определялись преимущественно изменением
эпидемиологической и климатической ситуации[35].
Аргументация Дж. Голдстоуна в этих двух пунктах
взаимосвязана: «Сама широта движения населения, которое изменялось в том же
направлении (увеличения или уменьшения – С.
Н.) хотя и в разной степени, на просторах от Англии до Китая -
предполагает, что ответ не может быть найдет в локальных (экономических – С. Н. ) особенностях… Смерть не уважала
доходы. Долговременные показателей смертности английских пэров и французских
герцогов были подобны тенденциям смертности населения в целом. Таким образом,
мы вынуждены искать причины изменений в смертности, которые свободно
распространяются поперек национальных границ, культур и групп населения с
разным достатком. Специалисты делают
вывод, что критической детерминантой долговременных изменений в смертности,
были долговременные изменения в сфере распространения болезней»[36].
Таким образом, первым аргументом является тезис о
синхронности демографических циклов на пространствах Евразии, выдвинутый в свое
время Ф. Броделем. Хотя экономические
условия в этих странах были, очевидно, различны, Ф. Бродель утверждал, что рост
и падение численности населения отмечалось в них примерно в одно и то же время,
что, по Дж. Голдстоуну, объясняется распространением глобальных эпидемий.
Однако сравнительно недавно Дж. Ричардс, П. Турчин и Т. Холл[37]
убедительно показали, что синхронность демографических циклов в
действительности отсутствует (на это обстоятельство указывалось и в работах
автора[38]).
Таким образом, конкретные экономические условия разных стран оказывались более
существенными, чем сила эпидемий.
Тезис о том,
что во время эпидемий «смерть не уважала доходы» также не соответствует
реальности. Врач Абдал-латиф, наблюдавший чуму 1200-1201 годов в Египте,
утверждал, что высокая смертность в значительной мере объяснялась нищетой и
полуголодной жизнью крестьян[39].
Особенно много свидетельств такого рода относятся к эпохе Черной Смерти. «Жан де Виет, Фруассар, Жиль де ле Мюизи,
Сион де Кувен, льежские хронисты начала XIV века и
многие другие прямо подчеркивали несопоставимость жертв простого народа и
господствующих классов, - указывает Ю. Л. Бесмертный. - Это подтверждает и
анализ налоговых документов, выявивший исчезновение в первую очередь менее
зажиточных хозяйств…»[40]
Для Лионне и Фореза существуют статистические данные, говорящие о более высоком
числе выживших детей в дворянских семьях, чем в семьях простонародья[41].
Для более поздних периодов о некоторых эпидемиях имеется более представительная
статистическая информация. Например, в 1918-1919 годах от голода и
сопровождавшего его эпидемии гриппа в Индии погибло 12 млн. человек; при этом
смертность среди заболевших гриппом в обеспеченных слоях населения составляла
6%, а среди простого народа – 50%[42]. «На научно-теоретическом и на уровне здравого
смысла наличие связи между материальным благополучием и здоровьем населения не
вызывает сомнений», - подчеркивает В. С. Тапилина, сопровождая эти слова ссылкой
на многочисленные конкретные исследования[43].
В силу зависимости между качеством питания и
сопротивляемостью организма, распространение эпидемии не было случайностью, они
охватывали, в первую очередь страны и
регионы, находившиеся в фазе Сжатия, где ослабленное недоеданием население было
восприимчиво к болезням[44].
Ф. Бродель, подчеркивал, что некоторые богатые районы Европы пострадали от
Черной Смерти значительно меньше, чем другие, так как «население их лучше
питалось и, следовательно, было более богатым и крепким»[45].
«Для современников связь между недоеданием и чумой была чем-то очевидным», -
констатирует Ц. Клапиш-Зибер[46]. Ж. Ле Гофф также указывал, что снижение
физической сопротивляемости человеческого организма вследствие постоянного
недоедания сыграло большую роль в распространении Великой Чумы[47].
В итоге, мы полагаем, что в двух перечисленных выше
пунктах расхождения между неомальтузианством и теорией Дж. Голдстоуна более
обоснованной и логичной является позиция сторонников неомальтузианской концепции.
Поэтому теория Дж. Голдстоуна должна быть модифицирована с целью приведения в
соответствие с постулатами классического неомальтузианства.
Итак, мы отказываемся от тезиса Дж. Голдстоуна о том,
что рост и падение численности населения в ходе демографического цикла объясняется, главным образом, случайными
экзогенными факторами, такими как большие эпидемии, войны, катастрофические
неурожаи. В модифицированном варианте теории демографическая динамика
объясняется двойственно. Во-первых, как было показано в п. 2.1, в
мальтузианской модели, учитывающей запасы продовольствия, должны происходить
эндогенные колебания численности населения – то есть колебания определенной
(затухающей) амплитуды должны происходить и без внешних воздействий. Во-вторых,
как показано в п. 2.2 экзогенные воздействия не имеют большого значения в фазе
роста, но в фазе Сжатия в связи с исчерпанием продовольственных запасов
демографическая динамика становится крайне чувствительной к этим воздействиям,
что приводит к демографическим катастрофам. Таким образом, в модифицированной
теории экзогенные воздействия проявляются не сами по себе, их действие
определяется демографической ситуацией, наличием или отсутствием перенаселения.
Соответственно, роль этих воздействий сводится к усилению (часто очень
значительному, кумулятивному)
воздействия демографического фактора. Большие неурожаи усугубляют эффект падения потребления,
вызываемый ростом населения, до уровня катастрофического голода. В свою
очередь, ослабление организма в результате хронического недоедания и голода
резко увеличивает смертность от эпидемий, превращая их в глобальные и
губительные пандемии. Внешние враги, в свою очередь, не теряют времени и стремятся использовать ослабление государства
для вторжения в страну. В итоге происходит экосоциальный кризис,
характеризуемый совместным действием демографического, эпидемического и военного факторов.
После введения
этих корректив можно считать, что общие принципы динамики населения в
неомальтузианской теории и динамики народа в модифицированной
демографически-стуктурной теории практически совпадают. Единственной
особенностью демографически-структурного подхода (в этой части) остается акцент
на необходимости учета резкой имущественной дифференциации в среде простого
народа. С учетом этого замечания можно считать, что процесс апробации неомальтузианской теории является частью процесса
апробации демографически-структурной теории (именно в разделе, описывающем
динамику народа).
Устранив разногласия между неомальтузианством и
демографически-структурной теорией, мы можем
использовать в рамках этой теории неомальтузианскую схему деления
демографического цикла на фазы. При этом к выделенным выше (в п. 2.3)
признакам различных фаз нужно
присоединить признаки, описывающие динамику элиты и государства, которые
специально изучаются демографически-структурной теорией. Очевидно,
дополнительным признаками для фазы Сжатия являются рост численности элиты, ее
обеднение, рост конкуренции за статусные позиции и фрагментация элиты, а также
хронический финансовый кризис государства и обострение борьбы за ресурсы между
государством, элитой и народом. Для фазы экосоциального кризиса дополнительными
признаками могут служить раскол элиты и вступление отдельных ее фракций в
борьбу с другими фракциями и государством, а также обращение этих фракций за
поддержкой к народу. Признаками экосоциального кризиса являются также
государственное банкротство и потеря управляемости.
В результате получается объединенная система
признаков, характерных для различных стадий демографического цикла. Ввиду важности этой системы мы приведем ее
полностью.
Итак, для первой фазы цикла – фазы роста характерны следующие явления :
1.1) наличие свободных земель, удобных для возделывания;
1.2) быстрый рост населения;
1.3) рост посевных
площадей;
1.4) в начале
периода - низкие цены на хлеб;
1.5) тенденция к
постепенному росту цен;
1.6 ) в начале
периода - высокая реальная заработная плата и относительно высокий уровень
потребления;
1.7) тенденция к
постепенному понижению реальной заработной платы и уровня потребления;
1.8) в начале
периода- низкий уровень земельной ренты;
1.9) тенденция к
постепенному повышению уровня ренты;
1.10) в начале периода – относительно низкий уровень
государственной ренты (налогов)
1.11) строительство новых
(или восстановление разрушенных ранее) поселений;
1.12) относительно
ограниченное развитие городов;
1.13) относительно
ограниченное развитие ремесел;
1.14) незначительное
развитие аренды;
1.15) незначительное развитие ростовщичества.
Для фазы Сжатия
характерны:
2.1) отсутствие
доступных крестьянам свободных земель;
2.2) крестьянское
малоземелье;
2.3) высокие цены на хлеб;
2.4) низкий уровень
реальной заработной платы и потребления основной массы населения;
2.5) демографический рост ограничен ростом урожайности, он
замедляется и останавливается, если урожайность не растет;
2.6) высокий уровень земельной ренты;
2.7) частые голодные годы;
2.8) частые эпидемии;
2.9) разорение крестьян-собственников;
2.10) рост задолженности крестьян и распространение
ростовщичества;
2.11) распространение
аренды;
2.12) высокие цены на землю;
2.13) рост крупного землевладения;
2.14) уход части
разоренных крестьян в города;
2.15) малоземельные и безземельные крестьяне пытаются заработать на жизнь работой по
найму, ремеслом или мелкой торговлей;
2.16) быстрый
(относительно роста населения) рост
городов;
2.17) развитие ремесел и торговли;
2.18) рост числа безработных и нищих;
2.19) тенденция роста социального протеста, вызываемого
тяжелым материальным положением, низким уровнем потребления;
2.20) активизация народных движений под лозунгами уменьшения
земельной ренты, налогов, передела собственности и социальной справедливости;
2.21) попытки проведения социальных реформ, направленных на
облегчение положения народа;
2.22)тенденция к увеличению централизации и установлению
этатистской монархии;
2.23) попытки увеличения продуктивности земель;
2.24) переселенческое движение на окраины и развитие
эмиграции;
2.25) ввоз
продовольствия из других стран (или районов);
2.26) непропорциональный (относительно численности
населения) рост численности элиты;
2.27) рост конкуренции за статусные позиции в среде элиты;
2.28) фрагментация
элиты;
2.29) функционирование государственного хозяйства на грани
финансового кризиса, длительные периоды
хронического финансового кризиса государства;
2.30) обострение борьбы за ресурсы между государством,
элитой и народом;
2.31) оппозиционные государству фракции элиты пытаются
поднять народ на восстание или присоединяются к народным восстаниям;
2.32) ослабление
официальной идеологии и распространение диссидентских течений.
Экономическая
ситуация в этот период неустойчива, у крестьян отсутствуют необходимые запасы
зерна, и любой крупный неурожай или война могут привести к голоду и
экосоциальному кризису. «Экономика предельно напряженная», - писал П. Шоню[48].
Для фазы экосоциального кризиса характерны:
3.1) голод, принимающий широкие масштабы;
3.2) широкомасштабные
эпидемии;
3.3) в конечном итоге - гибель больших масс населения,
принимающая характер демографической катастрофы;
3.4) государственное банкротство;
3.5) потеря административной управляемости;
3.6) широкомасштабные восстания и гражданские войны;
3.7) брейкдаун – разрушение государства;
3.8) внешние войны;
3.9) разрушение или запустение многих городов;
3.10) упадок ремесла
3.11) упадок торговли;
3.12) очень высокие цены на хлеб;
3.13) низкие цены на землю;
3.14) гибель значительного числа крупных собственников
и перераспределение собственности;
3.15) социальные реформы, в некоторых случаях
принимающие масштабы революции, порождающей этатистскую автократию.
Перечисленные здесь явления характерны
для соответствующей фазы демографического цикла в том смысле, что из теории
вытекает, что они с высокой степенью вероятности должны наблюдаться в этой
фазе. Поэтому при анализе истории конкретной страны необходимо проверить,
наблюдаются ли в соответствующий период указанные явления. Если они
наблюдаются, то появляется возможность объяснить их, исходя из демографически-структурной
теории. Если же они не наблюдаются, то причины этой аномалии должны быть
проанализированы особо. Большое количество аномалий, естественно, ставит под
сомнение вопрос о том, что данный период можно рассматривать как
демографический цикл.
В то же время необходимо отметить, что перечисленные
здесь явления имеют разную степень значимости. Наиболее значимы из них те,
которые лежат в основе экономического процесса: это признаки, связанные с
динамикой населения, посевных площадей, цен, потребления, ренты (1.1-1.9; 2.1 –
2.6; 3.1-3.3). Именно наличие этих
явлений должно быть проверено с особой тщательностью.
Наличие в данной фазе каких-то явлений, не указанных
для нее, как «характерные», само по себе ни о чем не говорит. Например, теория
утверждает, что во второй фазе с высокой
степенью вероятности должно наблюдаться распространение аренды, но она не утверждает, что это явление не
может наблюдаться в первой фазе. В
некоторых случаях аренда получает распространение и в первой фазе, но эти
случаи не объясняются прямо из демографически-структурной теории; для их
объяснения необходим конкретный анализ.
Необходимо также подчеркнуть, что теория
не претендует на объяснение всех явлений исторического процесса.
Представленный выше список характерных явлений охватывает те явления и
процессы, которые можно объяснить, исходя из демографически-структурной теории.
Разумеется, это далеко не все явления, которые могут наблюдаться в конкретных
случаях. Тем не менее, список охватывает большую часть важнейших социально-экономических
процессов и объяснение этих процессов с позиций единого методологического
подхода, естественно, имеет большое значение.
4.4 Проблема перераспределения ресурсов
Мы включаем в состав модифицированной
демографически-структурной теории все положения, выработанные ранее
неомальтузианством, в том числе и тезис о наблюдающейся в последних фазах цикла
тенденции к социальным реформам и установлению этатистской монархии
(автократии). Таким образом, модифицированная
демографически-структурная теория объединяет теорию Дж. Голдстоуна и
неомальтузианство в единую теоретическую систему.
Другое предлагаемое нами дополнение теории Дж.
Голдстоуна не связано с противоречиями между этой теорией и мальтузианством, но
является реакцией на одно из критических замечаний по адресу этой теории. Дж.
Винцент в своей рецензии на книгу Дж. Голдстоуна отмечал, что, хотя Дж.
Голдстоун говорит о необходимости учета
распределения ресурсов в структуре «государство-народ-элита», но на практике он
уделяет этому вопросу недостаточное внимание[49].
Мы, разумеется, будем стараться более строго следовать заявленным
демографически-структурной теорией принципам. Таким образом, при анализа
истории конкретной страны необходимо уделять особое внимание распределению
ресурсов в структуре «государство-элита-народ», и изменениям в распределении ресурсов с течением
времени.
Необходимо, прежде всего, обратить внимание на то
обстоятельство, что в ходе демографического цикла практически всегда происходит
перераспределение ресурсов от народа к элите, связанное с увеличением земельной
ренты. Но в исторической практике имели место также и случаи, когда изменение
отношений в структуре «государство-элита-народ» не сводилось к перераспределению
ресурсов, но имело качественный характер:
речь идет о создании новых отношений внутри структуры, об определенном
качественном изменении составляющих ее элементов и принципов их взаимодействия
– о трансформации структуры.
Примерами таких трансформаций могут служить закрепощение крестьян, качественно
изменяющее отношения между народом и элитой или создание регулярной армии,
изменяющее институциональное содержание одного из элементов структуры,
государства.
Трансформации структуры имеют чрезвычайно
важное значение, в частности, потому, что они приводят к особо масштабному
перераспределению ресурсов. Такое масштабное перераспределение ресурсов, в свою
очередь, влияет на темпы роста населения.
В истории известны многочисленные случаи, когда перераспределение
ресурсов в пользу государства вызывало сокращение ресурсов народа и приводило к
голоду, эпидемиям и сокращению численности населения. В качестве примеров можно
привести египетский кризис начала VIII века,
китайские кризисы в конце эпох Цинь и Суй[50].
Известны также случаи, когда к подобному результату приводило закрепощение
крестьян и чрезмерное увеличение ренты, то есть масштабное перераспределение
ресурсов от народа к элите. Примером здесь может послужить египетский кризис
начала XIII века[51].
Более того, А. В. Коротаев полагает, что такая ситуация была достаточно типична
для средневекового Египта, что в этой стране
непропорциональный рост элиты достаточно часто приводил к тому, что кризис начинался еще до
того, как полностью истощались земельные ресурсы[52].
Очевидно, в рамках демографически-структурной теории
требуется особо рассмотреть кризисы, вызванные масштабным перераспределением
ресурсов внутри структуры «государство-элита-народ» – мы будем называть такие
кризисы структурно-демографическими или
просто
структурными. Прежде всего, необходимо различать ситуации, когда структурный кризис происходит
в фазе роста и когда он происходит в фазе Сжатия. Если перераспределение
ресурсов происходит в фазе Сжатия, в условиях неустойчивого социально-экономического равновесия, то оно,
естественным образом, нарушает это равновесие и страна входит в фазу
экосоциального кризиса. Эффект
перераспределения ресурсов в этом случае подобен эффекту большого неурожая,
длительной войны и других экзогенных воздействий, выводящих систему из
равновесия (см. предыдущий пункт). Перераспределение ресурсов лишь ускоряет
экосоциальный кризис, и структурный кризис сливается с глобальным экосоциальным
кризисом.
Другой результат наблюдается, когда структурный кризис
происходит в фазе роста. В этом случае у крестьян имеются свободные земельные
ресурсы и социально-экономическое равновесие относительно устойчиво.
Перераспределение ресурсов вызывает голод, но этот голод не носит характер
глобальной катастрофы, и, оказавшись перед лицом кризиса, государство и элита
обычно имеют возможность среагировать на него и вернуть народу часть ресурсов.
Равновесие, таким образом, восстанавливается – хотя, возможно, при несколько
иных пропорциях ресурсного перераспределения. В итоге, структурный кризис в
фазе роста, как правило, имеет локальный
характер, и не приводит к демографической катастрофе. Такой локальный характер,
имел, например, кризис в конце правления
Петра I[53].
Наряду с перераспределением ресурсов от народа к
государству и элите могут иметь случаи обратного перераспределения – от элиты и
государства к народу. Такое перераспределение может быть, в частности,
результатом социальных реформ, осуществляемых в фазе Сжатия. Оно увеличивает
устойчивость социально-экономической системы и на время отдаляет наступление
экосоциального кризиса.
Демографически-структурная теория
указывает, что рост численности элиты, ее непропорциональная большая
численность по отношению к народу, часто
приводит к перераспределению ресурсов в
пользу элиты. Обычно это перераспределение носит характер увеличения ренты, но, в тех
случаях, когда экономические условия препятствуют увеличению ренты, в
частности, когда в фазе роста имеется изобилие свободных земель, может произойти
и качественное изменение отношений между элитой и народом, например закрепощение, позволяющее увеличить
ренту[54].
В фазе Сжатия борьба за перераспределение ресурсов
между государством, элитой и народом обостряется, что отчасти объясняется
бедственным положением народа, непропорциональным ростом элиты, финансовым
кризисом государства. Теория утверждает, что в перспективе эта борьба
заканчивается экосоциальным кризисом, но она не предсказывает результатов этой
борьбы в период Сжатия и ничего не говорит о том, как протекает эта борьба в
период роста. Между тем, исторические примеры показывают, что в этот
период иногда наблюдались трансформации структуры, приводившие к широкомасштабному перераспределению ресурсов.
Таким образом, мы сталкиваемся с ограниченностью
объяснительных возможностей демографически-структурной
теории и необходимостью привлечения других теоретических концепций – во всяком
случае, при анализе вопроса о причинах трансформаций структуры. Мы вернемся к
этой проблеме в главе V.
Суммируя приведенный выше анализ проблемы
перераспределения ресурсов, мы приходим к выводу о необходимости, помимо
произведенной выше модификации демографически-структурной теории, дополнить эту теорию двумя понятиями –
трансформации структуры и структурно-демографического кризиса.
Таким образом, далее под демографически-структурной
теорией мы будем подразумевать модифицированную и дополненную теорию Дж.
Голдстоуна. Как отмечалось выше, смысл этой модификации состоит, главным
образом, в том, чтобы привести демографически-структурную
теорию в соответствие с неомальтузианскими положениями. При этом, сохраняя
конкретные положения теории, модификация принципиально меняет ее философскую
основу, заменяя экзогенное объяснение динамики населения эндогенным. Поэтому,
вероятно, нам следовало бы поставить вопрос о новом качестве теории и, соответственно, о смене ее названия – но,
придерживаясь принципа преемственности, мы будем пользоваться старым
названием.
В связи с модификацией демографически-структурной
теории неизбежно встает вопрос о том, можно ли считать, что выполненная Дж.
Голдстоуном апробация этой теории на материале истории Англии, Франции, Китая и
Османской империи в XVI-XVIII веках сохраняет свое значение? Процесс апробации
теории заключает в себе проверку соответствия теоретических положений наблюдаемым
в истории различных стран фактам и
явлениям. Факты и явления, требующие проверки на соответствие в
модифицированной теории и теории Дж. Голдстоуна одни и те же: динамика
численности населения, цен, заработной платы, динамика потребления различных слоев
населения, учет развития ремесел и миграции в города, изменение численности и благосостояния элиты,
изменение финансовых ресурсов государства и т.д. Модифицированная теория дает
лишь иное (эндогенное) истолкование причинно-следственных связей, поэтому
выполненная Дж. Голдстоуном работа по обнаружению этих (соответствующих теории)
фактов и явлений сохраняет свое
значение.
Сохраняет свое значение и работа по апробации
неомальтузианской теории на материале различных стран, выполненная многими историками
за длительный период существования неомальтузианства. В нашем понимании неомальтузианская теория является частью
модифицированной демографически-структурной теории, причем в силу
предшествующего развития, частью, наиболее детально разработанной