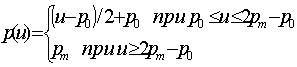ГЛАВА II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ЦИКЛОВ
2.1. Демографическая динамика
земледельческого общества
Как
отмечалось выше, в обсуждении демографической динамики аграрных обществ
присутствует математический и экологический аспект. Этот аспект связан с тем
обстоятельством, что мальтузианско-рикардианская теория (в отличие от многих
других исторических концепций) допускает формализацию в виде
экономико-математических моделей, то есть ее обсуждение может происходить на
более высоком формально-логическом уровне. Проблемы, обсуждаемые в этом
параграфе, касаются важнейшего для мальтузианской концепции вопроса: может ли
эта теория в принципе объяснить наблюдаемые колебания численности населения и,
в частности, уменьшение населения в последней фазе цикла? Как
упоминалось в п. 1.3, критики неомальтузианства настаивают на том, что уменьшение
населения имеет не эндогенный, а экзогенный характер.
В обычной методологии научного исследования в решении
теоретических вопросов важную роль играет эксперимент. Однако поскольку
эксперименты с численностью населения возможны только при изучении популяций
животных, важную роль приобретают данные экологии; при этом демографы исходят
из положения Мальтуса о том, что демографическая динамика в человеческом обществе
в принципе является такой же, что и в сообществах животных, что естественный
прирост увеличивается при росте потребления и уменьшается при его уменьшении.
Это предположение, по-видимому, не справедливо для современного промышленного
общества, но считается справедливым для традиционных аграрных цивилизаций.
Исходя из этого предположения, американские демографы
Р. Пирл и Л. Рид провели комплекс экологических экспериментов и показали[1], что для
некоторых видов животных и насекомых процесс роста популяции в условиях
ограниченности ресурсов описывается так называемым логистическим уравнением:
(1) ![]()
Здесь N(t) – численность популяции в момент t, r
– максимальный естественный прирост в благоприятных условиях, K – максимально
возможная численность популяции при данных ресурсах (вмещающая емкость
экологической ниши), эту величину можно трактовать также как количество продовольственных
ресурсов, деленное на минимальную норму потребления. Как отмечалось выше, решение
логистического уравнения называется логистической кривой (см. рис. 2).
Логистическая кривая сначала возрастает довольно медленно, потом рост
ускоряется, но через некоторое время кривая приближается к асимптоте N = K , поворачивает и далее движется
вдоль асимптоты. Поскольку продовольственные ресурсы остаются ограниченными, то
по мере роста населения соответственно убывает душевое потребление (вторая
кривая на рис. 2). В целом поведение логистической кривой соответствует мальтузианскому
постулату о том, что при уменьшении душевого потребления рост замедляется.
Поскольку логистическое уравнение было выведено,
исходя из многочисленных экологических экспериментов, то оно стало классическим
инструментом экологии. Однако логистическое уравнение объясняет замедление
роста, но не объясняет уменьшения численности популяции, поэтому экологи и
демографы были вынуждены искать объяснения этим (наблюдавшимся как в популяциях
животных, так и в человеческом обществе) явлениям во внешних факторах – в
климатических изменениях, неурожаях, эпидемиях, войнах. Это была одна из
главных причин того, что экзогенное объяснение колебательного процесса стало
основой критики неомальтузианской теории. Как упоминалось выше, в одной из
работ Р. Ли была построена математическая модель, в которой случайные
воздействия объясняли демографические колебания в Англии[2].
Таким
образом, при исследовании демографических процессов математическими методами
необходимо, в первую очередь, показать возможность эндогенных колебаний в
системе, поведение которой описывается логистическим уравнением. При этом
важно привлечь для объяснения этих колебаний специфику земледельческого
общества, характер потребления которого отличается от характера потребления
животных тем, что земледельцы потребляют производимые ими же ресурсы, то есть К не является постоянной величиной, а
зависит от посевных площадей, которые, в свою очередь зависят от численности
населения. Изучению динамики населения в земледельческом обществе с помощью
математических моделей посвящено значительное количество работ[3]. Однако
большинство их этих моделей достаточно сложны и включают в себя неопределенные
параметры, изменение которых существенно влияет на поведение модели. В этом
пункте мы предлагаем вниманию читателя простейшую дифференциальную модель, не
имеющую неопределенных параметров, и поэтому однозначно описывающую поведение
исследуемого объекта.
Пусть K(t) -
запасы зерна после сбора урожая, исчисляемые количеством минимальных годовых
пайков (один паек - это примерно
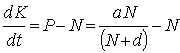
(2)
Итак, мы имеем простейшую систему двух дифференциальных
уравнений (1)-(2). Эта система имеет положение равновесия, когда население и
запасы остаются постоянными - это точка K0=
N0 = a-d.
Если в формуле для dP/dN устремить N к 0, то мы получим a/d - урожай (в количестве пайков), получаемый
одним земледельцем в благоприятных условиях (когда население мало и он может
обработать максимальную площадь). Таким образом, величина q= a/d, показывает, сколько человек (включая и себя) может в
благоприятных условиях прокормить один земледелец (или сколько семей может
прокормить одна земледельческая семья). Из истории аграрных обществ известно,
что q обычно колеблется в пределах 1.2< q <2. Имеет смысл выразить a и
d через q и N0:
d= N0/(q-1), a= qN0/(q-1)
N0
можно условно приравнять к 1, так что в этой модели мы имеем две константы r и q,
имеющие реальный смысл и колеблющиеся в известных пределах: 0,01<r<0.02, 1.2<q<2. Обычные
методы исследования динамических систем позволяют установить, что система
(1)-(2) имеет характеристические числа
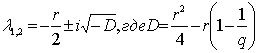
(во всем диапазоне r
и q величина D<0). Это означает, что система (1)-(2)порождает затухающие ко
лебания. Первые колебания могут иметь различный период, но когда кривая
приближается к положению равновесия период близок к

Период T уменьшается при увеличении r и q,
и, соответственно, увеличивается при уменьшении этих величин.
Табл. 1
Период колебаний при различных r и q (в годах)
|
q\r |
0.01 |
0.02 |
|
1.2 |
154 |
110 |
|
2.0 |
89 |
63 |
В случае, когда первоначальное население мало, первый
цикл может быть намного длиннее обычного, наличие больших запасов порождает у
земледельцев иллюзию благополучия. Как видно из рис. 6 численность населения с
запозданием реагирует на уменьшение экологической ниши и продолжает расти в то
время, когда экологическая ниша (то есть запасы плюс производство) сокращается.
В результате происходит демографическая катастрофа; за короткое время население
может уменьшиться в 2-4 раза. После катастрофы, в условиях изобилия свободных
земель, население снова возрастает, но чрезмерный рост снова приводит к новой
катастрофе. Второй цикл по протяженности уже ближе к стандартному периоду T, а падение
численности населения имеет меньшие масштабы. В последующих циклах колебания
постепенно затухают, и уменьшение численности населения уже не имеет катастрофического
характера.
Таким образом, согласно предложенной модели, динамика
земледельческой популяции имеет колебательный характер. Вблизи положения
равновесия период колебаний порядка столетия, и за один цикл амплитуда
уменьшается примерно в два раза. Хотя в теории эти колебания затухают и система
стремится к состоянию равновесия, на практике различные случайные и не учтенные
здесь воздействия (война, климатические катаклизмы) выводят систему из
состояния равновесия, после чего начинается новая серия затухающих колебаний.
Однако важно, что, в принципе, колебания могут происходить и без внешних
воздействий, что они имеют эндогенный характер. Основной причиной этих колебаний
является запаздывающая реакция населения на сокращение экологической ниши,
связанная со спецификой земледельческого хозяйства, а именно, с созданием
запасов зерна.
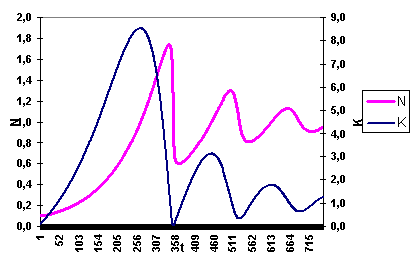
Рис. 6.
Пример расчета по модели (r=0,016, p=1,2)
До сих пор
мы исследовали колебания численности населения в условиях стационарной экологической
ниши, а именно, в условиях постоянной урожайности. Однако в реальности даже в
традиционном обществе происходит рост урожайности, связанный постепенным
улучшением технологии земледелия. Поэтому, для того чтобы сравнить результаты
модельных вычислений с реальным ростом населения, например, в странах Европы,
необходимо изменить формулу для производства продуктов питания (формулу для Р) с учетом влияния технологии.
Усовершенствованная модель, учитывающая технологических рост, была построена
совместно автором и известным специалистом по экономической истории,
профессором Джоном Комлосом, в статье, опубликованной в журнале «Historical Methods»[4]. Дж. Комлос
предложил рассчитывать производство по формуле Кобба-Дугласа:
P(t) = [T(t)1/3 N(t)2/3]
где T(t) – текущее состояние технологии.
Технология – это аккумулированный опыт людей и ее
уровень пропорционален числу людей, которые когда-либо жили:
T
(t+1) = T (t) +cN(t)
(здесь
с – некоторый постоянный
коэффициент). В остальном эта модель аналогична предыдущей модели автора, с той
разницей, что она является не дифференциальной, а дискретной, то есть вычисления
производятся от года к году по итерационным формулам. Запасы продовольствия G(t),
оставшиеся от прошлого года на момент сбора нового урожая равны
G(t)=G(t-1)+q[P(t-1) - N(t-1)]
где
q
– коэффициент сохранения запасов. Ресурсы текущего года (производство плюс
запасы) определяются по формуле
K(t) = P(t) + G(t)
Население
определяется по дискретной формуле, соответствующей формуле логистического уравнения:
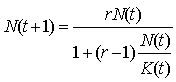
Последовательно вычисляя по этим формулам
и подбирая константы, мы попытались приблизить известные данные о росте населения
Европы с 1200 по 1750 годы. Для констант r = 1.022; T(0) = 48; c=0.0019; G(0) = 30; N(0) = 26; q = 0.12,
была получена картина, в целом соответствующая реальным данным о численности
населения, приводимым Мак-Эведи и Джонсом[5].
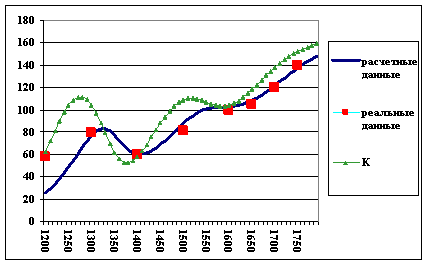
Рис.
7. Сопоставление результатов расчета численности населения Европы (млн.) с
реальными данными
Значительное
расхождение результатов расчета с данными Мак-Эведи и Джонса для 1200 года
можно объяснить тем, что для этого времени нет реальных письменных источников о
численности населения Европы, поэтому оценка Мак-Эведи весьма сомнительна.
Более надежные данные для Англии дают значительно более высокий, чем у
Мак-Эведи, темп роста на протяжении XIII века[6].
Что касается других реперных точек, то результаты расчетов получаются близкими
к реальным данным. «Типичный результат моделирования, представленный на рисунке
7, указывает, что модель фактически способна весьма разумно приближать оценки
населения, даваемые Мак-Эведи и Джонсом… - писал Дж. Комлос. - Демографический
кризис, связанный с Черной Смертью воспроизведен очень хорошо, без внешнего
удара по населению. Вопреки представлению, что спад населения был экзогенным,
модель подчеркивает их эндогенную природу, то есть, что циклы могут осмысляться
как неотъемлемая часть европейской демографической системы. Наше истолкование состоит в том, что
европейское население достигло мальтузианского потолка около 1300 года, так что
длительный спад произошел бы в любом случае. Безусловно, Черная Смерть усилила
этот процесс и, возможно, даже была его ближайшей причиной, но, как нам
представляется, не его фундаментальной детерминантой» [7].
2.2
Моделирование демографического цикла
Описанные выше
имитационные модели демонстрируют возможность эндогенного мальтузианского
объяснения европейских демографических циклов. Однако мы не можем полностью
отрицать роль случайных экзогенных воздействий, таких, как резкие колебания
климата, приводящие к большим неурожаям, или занесенные извне эпидемии. Как отмечалось выше (в п. 1.3) критики неомальтузианства
абсолютизируют роль этих факторов, приписывая им главную роль в демографических
катастрофах. Неомальтузианцы же отвечают, что неурожаи и
пандемии бывали во все времена, но они оказывались катастрофическими лишь в
периоды перенаселения, когда популяция была ослаблена постоянным недоеданием –
то есть случайные факторы лишь усиливали эффект перенаселения[8]. Изучение роли колебаний урожайности
представляет собой сложную задачу: дело в том, что на социально-экономическую
систему оказывают влияние многие факторы, и понять значение случайных колебаний
урожайности можно лишь, моделируя систему в целом. С другой стороны, неомальтузианская
теория полагает, что перенаселение стимулирует некоторые социальные процессы,
такие как разорение крестьян, рост крупного землевладения, рост числа
арендаторов и ремесленников и т. д. Изучение этих процессов с помощью
математической модели также является важной задачей, для решения которой
требуется достаточно сложная модель. В то же время исторические источники лишь
в крайне редких случаях дают данные, которые позволили бы построить такую
модель, данные о населении, посевных площадях и урожайности на протяжении
целого демографического цикла. Фактически единственный такой случай – это
ханьский цикл истории Китая (I-II века н. э.), от которого дошло достаточно
много данных благодаря развитой системе государственной статистики. Таким образом,
для построения модели нам приходится использовать материалы достаточно отдаленной
эпохи, но при этом необходимо отметить то обстоятельство, что китайское
общество того времени было типичным аграрным обществом и, в целом, по-видимому,
можно полагать, что рассматриваемая модель в своих основных ![]()
чертах
описывает общие процессы аграрных обществ.
Социально-экономические процессы, протекавшие в
империи Хань, проанализированы в ряде работ отечественных и зарубежных
историков[9]. Прежде,
чем приступать к моделированию этих процессов, естественно, необходимо ознакомиться
с их содержанием. Поэтому мы начнем с краткого описания ханьского цикла, следуя
в основном известной монографии В. В. Малявина[10].
Прежде всего, необходимо отметить, что цикл эпохи
Младшая Хань не был первым
демографическим циклом в истории Китая; эта страна и раньше страдала от перенаселения и
испытывала демографические катастрофы. В конце эпохи Старшая Хань (II-I века до
н. э.) численность населения достигала 60 млн. человек и летописи многократно
упоминали о голоде. В деревне господствовало помещичье землевладение; помещики
и ростовщики скупали земли разоренных крестьян. Конфуцианские чиновники
неоднократно пытались ограничить крупное землевладение; в 8 году н. э.
император Ван Ман издал указ о переделе земли и введении системы равных наделов
(«цзинь-тянь»)[11]. Несмотря
на решительные действия Ван Мана, реформа закончилась неудачей из-за
сопротивления крупных собственников; земельная проблема осталась
неразрешенной. В 18 году в низовьях
Хуанхэ разразился страшный голод, доводивший людей до людоедства. «Ныне засуха
продолжается несколько лет, - свидетельствовал трактат «Ханьшу». - Всюду возникает война. Это - конец света»[12]. Голодающие
объединились в армию «краснобровых», началась гражданская война, продолжавшаяся
более десяти лет. Великая Равнина была выжжена и опустошена, города разрушены.
Бесстрастные переписи зафиксировали гибель двух третей из 60 миллионов жителей
Поднебесной[13] .
Катастрофа привела к распаду государства и появлению
шести полунезависимых вассальных царств, однако Империя была быстро
восстановлена. В 40 году император Гуан У-ди устранил вассальных правителей и
воссоздал систему государственного регулирования. Были проведены массовые
конфискации земли у помещиков и освобождены долговые рабы; после этих
преобразований в деревне преобладало мелкое крестьянское землепользование на
государственной земле; крестьяне жили соседскими общинами и именовались
«поравненным народом»[14]. «В начале
царствования Хань могущественные кланы шести царств были ослаблены, - свидетельствует
чиновник Ду Линь. - В городах и общинах не было семей получавших большие
доходы. В сельской местности не было людей, прибиравших к рукам землю»[15]. Были
восстановлены монополии на соль и железо, проведен кадастр, регулярно
проводились переписи населения. Налоги были небольшими, поземельный налог не превышал
1/30 урожая[16]. Чиновники
правительственных учреждений отбирались посредством открытой для всех
экзаменационной системы и строго контролировались; традиционный образ беспристрастного
и справедливого конфуцианского «чистого чиновника» занимает почетное место на
страницах хроник. «Неустанно стремиться к гуманности и справедливости,
страшиться лишь того, что не сможешь управлять народом - таковы думы сановных мужей»,
- писал сановник Ян Юнь[17].
Первые
полстолетия эпохи Хань остались в памяти народа как время спокойной и сытой
жизни. «Когда на престол взошел Сянь-цзун, в поднебесной воцарились мир и
покой, - говорит «История Цзинь». – Народ не был отягощен трудовыми
повинностями, из года в год выращивался хороший урожай. В 5 году правления
Юнпин (62 год) были учреждены “постоянно полные амбары”. К востоку от столицы
учредили зерновые рынки. Один ху зерна стоил 20 монет»[18]. Система
“постоянно полных амбаров” предназначалась для помощи крестьянам во время
голода; как показывают документы, зерно выдавалось беднякам весной по норме,
необходимой для посева[19].
Показателем
благополучия был быстрый рост населения: с 21 млн. в 57 году до 34 млн. в 75 году и до 43 млн. в
88 году. К 105 году численность населения достигла 53 млн., приблизившись к тому рубежу, на котором
сто лет назад произошла демографическая катастрофа[20]. В
источниках появляются сведения о засухах и голоде, которые охватили прежде
всего самые густонаселенные районы - восточную часть долины Хуанхэ (Гуаньдун).
«Суждения позднеханьских авторов свидетельствуют об остром аграрном кризисе в Гуаньдуне, - отмечает В. В. Малявин. - В
Бедняки, которые не могли дотянуть до следующего
урожая, брали зерно в долг у зажиточных соседей - в деревне появились ростовщики
и помещики, скупавшие земли разорившихся крестьян. «Несомненно, крупные
землевладельцы пользовались неустойчивостью экономического положения простых
крестьян, - указывает В. В. Малявин, -
значительная часть которых, если не большинство, не могла свести концы с
концами. Доказательств тому немало, но мы ограничимся лишь несколькими. Интересные
данные об экономической жизни раннеханьской деревни
содержатся в документах, найденных близ Цзянлина (пров. Хубэй) в могиле
некоего Чжан Яна, выполнявшего обязанности сельского
старосты. Среди них имеются записи о выдаче ссуд семенного зерна 25 крестьянским
дворам. Указанных в списках земельных участков крестьян — в среднем по 25 му на семью из 4—5 человек — не хватало даже для
прокорма, так как с одного му хорошей земли в ханьский
период получали около 3 даней зерна, а взрослому человеку для пропитания
требовалось в месяц 1,5-2 даня. О том, что множество крестьян постоянно не могли дотянуть до нового
урожая, свидетельствует Цуй Ши, который в своих “Помесячных указаниях для четырех
групп народа” советует поздней весной “усилить охрану усадьбы, чтобы защититься от набегов разбойников, которые,
словно трава, появляются
в весеннюю пору, когда голодно”»[22].
Чиновники поначалу довольно пренебрежительно
относились к помещикам и ростовщикам, этим «ничтожным торговцам овощами», и
негодовали на то, что они «разъезжают на холеных лошадях, бахвалятся
богатством», «не имея печати даже низшего служащего, носят одежду со звездами»[23]. Однако
постепенно помещичьи кланы превратились в «могущественные семьи» и «сильные
дома». «Высшие семьи,— писал Цуй Ши,— накапливают миллионные богатства,
приобретают земельные владения, не уступающие пожалованиям удельной знати. Они
дают взятки, чтобы заставить власти поступить несправедливо, держат у себя
телохранителей, чтобы запугивать простой народ. Они убивают невинных и
хвастаются, что никто из их людей не был казнен, как преступник,
на рыночной площади. Так живут, а после смерти пользуются почестями, как
государи. Посему люди низших дворов в страхе топчутся, не зная, куда ступить.
Отцы и дети, склонив головы, рабски прислуживают богатеям
и приводят к ним в услужение жен и детей. Оттого богатеи, всего имея в
избытке, день ото дня становятся еще богаче. Бедняки, не имея необходимого, с
каждым годом беднеют. Из поколения в поколение они живут, словно пленники, и
все же не имеют достаточно пищи и одежды. При жизни они изнемогают от
непосильного труда, после смерти их постигает несчастье остаться непогребенными. Если случится небольшой недород,
им приходится идти по миру, хоронясь в придорожных канавах, продавать жен и
детей. Никакими словами не высказать, что значит не
иметь никакой радости в жизни!»[24]
По мнению большинства
исследователей, основную массу держателей земли
«сильных домов» составляли арендаторы-издольщики, связанные с землевладельцем
отношениями кабального должничества и выплачивавшие
ему от половины до двух третей урожая[25].
Разоренные и лишившиеся земли крестьяне пытались
прокормиться ремеслами, уходили в города, нанимались рабочими в мастерские или
на промыслы. Это привело к расцвету ремесел, бурному росту городов, обогащению
купцов и предпринимателей. «Ныне, — писал Ван Фу, — люди бросают хлебопашество
и шелководство; устремляются в праздные занятия, отовсюду извлекают доходы, и
богатства скапливаются в одном доме. Хотя отдельные семьи богатеют, общее
благосостояние падает... Ныне купцы наперебой продают бесполезные товары,
погрязают в чрезмерной роскоши, соблазняя людей, отнимают их имущество. Хотя
для порочной торговли это приобретение, для государственного бюджета - потеря»[26].
Бедствующие крестьяне не могли платить налоги, и это
привело к финансовому кризису государства. С конца I века слышатся постоянные
жалобы на истощение казны, в 107 году были приняты экстренные меры: была
приостановлена выплата жалования служащим и введены дополнительные поборы. «У
чиновников нет денег, и они берут у народа»,
- отмечал сановник Чжу Му[27]. Подобная
практика вскоре привела к разложению бюрократии; взяточничество укоренилось
настолько, что местные власти открыто требовали мзду с каждого, кто решался
затеять судебную тяжбу; произвольные поборы с населения считались в порядке
вещей. Чиновничьи должности стали рассматриваться как источник наживы - и
естественно, вскоре началась сначала тайная, а потом открытая торговля
должностями. Испытывая нехватку средств, правительство стало продавать сначала
низшие, а затем и высшие должности; при императоре Лин-ди (162-189) должность
правителя области стоила 20-30 млн. монет. Должности в системе местного
управления были захвачены помещиками, которые использовали их для уклонения от
налогов - это, в свою очередь, усугубило финансовый кризис. В обстановке
всеобщей продажности «чистые чиновники» I века были оттеснены от власти
коррумпированными кликами. Формирование этих клик началось в конце I века,
когда после смерти императора Чжан-ди (
Оттесненные от власти «чистые чиновники» с
негодованием смотрели на охватившее верхи разложение. В борьбе за власть «чистые»
опирались на общественное мнение, они ввели практику неофициальной критики,
«чистых суждений». «В царствование Хуань-ди и Лин-ди
правители были никчемными людьми, - говорит трактат «Хоу Хань шу», - правление
расстроилось, судьба государства решалась в гаремных покоях. Ученые мужи
стыдились иметь к этому отношение. Посему простые люди открыто выражали свой
гнев, а мужи, не состоявшие на службе, начали высказывать свои суждения. Так
они снискали славу, стали восхвалять друг друга, давать оценки гунам и цинам.
Обычай судить об истинном и ложном в управлении начался с этого»[30].
Столкновение «чистого» чиновничества с придворными
кликами было неизбежно. В 153 году несколько тысяч студентов высшей школы
«Тайсюэ» выступили с петицией, в которой осуждалось засилье
евнухов-царедворцев, а сами они сравнивались с тиграми и волками, пожирающими
народ. В 163 году «чистые» чиновники Ян Бин и Чжоу Цзин добились от императора
разжалования свыше 50 сторонников клики евнухов. Многие из них были преданы
суду и приговорены к казни. В движение вскоре включились чиновники на местах; в
областях и уездах смещали сторонников клики евнухов, конфисковывали их
имущество, многих казнили или заключали в тюрьмы[31].
Кризис наступил в 168 году. Вскоре после смерти
императора Хуань-ди сторонник «чистых» главнокомандующий Доу У предпринял
решительную попытку уничтожить клику евнухов. Но евнухам удалось раскрыть его
план, они захватили малолетнего императора и заставили его объявить Доу У
мятежником. Войска Доу У рассеялись, и окруженный врагами главнокомандующий покончил с собой. «Чистые»
потерпели поражение, и, подчиняясь священному для чиновников императорскому
указу, их лидеры Ли Ин и Фань Пан сами пришли в тюрьму навстречу смерти. Свыше
ста руководителей движения были казнены; евнухи окончательно подчинили себе
императора[32]. «В те дни
злые люди одержали верх, а все чиновники пали духом», — говорит трактат «Хоу
Хань шу»[33].
Табл. 2.
Численность
населения и посевные площади в Китае I-III веков[34].
|
год |
насел. |
пашня |
пашня на |
|
н. э. |
млн. |
млн. му |
душу нас. |
|
2 |
59,6 |
827 |
13,9 |
|
57 |
21, 0 |
357 |
17,0 |
|
75 |
34,0 |
|
|
|
88 |
43,4 |
732 |
16,9 |
|
105 |
53,3 |
746 |
14,0 |
|
122 |
48,7 |
694 |
14,3 |
|
144 |
49,2 |
690 |
14,0 |
|
146 |
47,5 |
693 |
14,6 |
|
157 |
50,1 |
|
|
|
263 |
7,7 |
|
|
«Чистые чиновники» боролись с коррумпированными
кликами, исходя из традиционных принципов гуманности и справедливости – в
конечном счете, они преследовали те же цели, что и Ван Ман, - и так же как два
столетия назад, их попытка закончилась неудачей. Между тем, положение в деревне становилось
все более напряженным. Еще в начале II века, как только популяция Хань приблизилась
к границам экологической ниши, голод породил первую волну крестьянских
восстаний; в 109-112 годах восстания охватили девять приморских областей. В
130-х годах происходили восстания в Чжецзяне и Хубэе; в 140-х годах поднялись
Шаньдун и Цзянсу, армия восставших насчитывала десятки тысяч солдат,
повстанческие вожди объявляли себя императорами. Восстания подавлялись, но вскоре
вспыхивали вновь - в других провинциях. Все это происходило в обстановке
перманентного голода; в 147 году от голода погибла «масса населения» в Цзинчжоу,
в 153 году «несколько сот тысяч семей голодающих бродило по дорогам»[35]. После 105
года население больше не росло, сдерживаемая голодом логистическая кривая
повернула к асимптоте на уровне в 55-60 млн. - том самом уровне, на котором
произошла катастрофа начала I века. Посевные площади не только не росли, но
даже несколько уменьшились – по-видимому, в результате набегов степных племен[36].
После 156
года отсутствие средств у государства
привело к прекращению выдачи пособий голодающим[37]. В 160-х и
170-х годах восстания в разных провинциях происходили практически непрерывно;
повсюду ходили агитаторы и проповедники, призывавшие низвергнуть «Синее Небо»
династии Хань. По деревням передавали из рук в руки таинственную рукопись
«Тайпинзин», написанную магом Юи Цзи. Название этого трактата переводится как
«Книга о Великом Равенстве и Благоденствии». «Все блага, имеющиеся в
пространстве между небом и землей, — писал Юи Цзи, — созданы для пропитания
человека. Если же какая-нибудь семья захватит для себя все эти блага, то это
может сравниться лишь с тем, как если бы одни крысы могли насыщаться хлебом,
собранным в амбаре»[38]. Юи Цзи
призывал крестьян к восстанию против Синего Неба Хань и был казнен за эти призывы.
Но его книга породила грозные всходы: обездоленные Поднебесной сплотились в
могущественную секту «Тайпиндао», «Путь Великого Равенства». Создателем
«Тайпиндао» был Великий Маг Чжан Цзюэ. В те времена, когда от голода и чумы
вымирали целые деревни, он бродил по Поднебесной и лечил людей заговорами. Чума
выступала в этой трагедии в роли Судии Последнего Дня: грешники погибали, а
праведники выздоравливали и вступали на «Путь Великого Равенства». Чжан Цзюэ
объединял их в боевые отряды, возглавляемые малыми и великими магами. Он
создал армию из 36 отрядов и сотен тысяч обездоленных, готовых на все[39].
В марте 184 года последователи «Тайпиндао» повязали
свои головы желтыми повязками и поднялись на борьбу. Некоторые историки
считают, что повстанцы действовали в союзе с враждебными двору «чистыми чиновниками» - во всяком
случае, император Лин-ди опасался этого союза и распорядился прекратить
преследования «чистых»[40].
Правительство обратилось за помощью к провинциальным «сильным домам»; помещики
вооружили свои дружины, и после десяти месяцев ожесточенных боев главные силы
восставших были разбиты и рассеяны. Однако восстание не было подавлено -
разрозненные отряды «желтых повязок» продолжали борьбу еще десять лет; в ходе
этой борьбы правительство потеряло контроль за провинциями; провинциальные
наместники завели свои армии и стали почти
независимыми. В 189 году умер император Лин-ди, и «чистые чиновники» во
главе с Юань Шао воспользовались случаем, чтобы устроить государственный
переворот и уничтожить клику евнухов. Однако Юань Шао не удалось подчинить
наместников и военных вождей, которые развязали долгие междоусобные войны.
Восстания и войны сопровождались массовым истреблением населения, голодом и
эпидемиями. Полководец Дун Чжо сжег Лоян и все города в радиусе 200 ли вокруг
столицы; население Чанъаня было вырезано, в обширной окружающей области
«два-три года не курился дымок от человеческого жилья»[41].
В ходе этих войн выдвинулся талантливый генерал Цао
Цао, который правил за спиной марионеточного императора Сянь-ди; к 205 году Цао
Цао овладел Северным Китаем; в 220 году его сын Цао Пи был провозглашен первым
императором династии Вэй[42].
Восстания и междоусобные войны привели к
демографической катастрофе: в середине III века население Китая насчитывало не
более 8 млн. человек[43]. Вместе с
тем разразившийся катаклизм принес с собой социальную революцию: Цао Цао был
сторонником «чистых чиновников» и, придя к власти, он реформировал китайскую
социальную систему по конфуцианскому образцу. Ближайшим советником Цао Цао был
ученый Чжунчан Тун, известный своей яростной критикой ханьских порядков.
Чжунчжан Тун призывал Цао Цао железной рукой навести порядок в государстве,
ужесточить законы, связать население круговой порукой, раздавить магнатов,
притесняющих простой люд, и распределить землю между крестьянами[44]. Следуя
этим рекомендациям, Цао Цао ввел систему военных поселений («тун тянь»), где
разделенные на «пятерки» и «десятки» поселенцы обрабатывали землю под
присмотром своих командиров. Крестьяне-солдаты получали от государства землю,
посевное зерно и быков и сдавали в казенные закрома половину урожая. Постепенно
расширяясь, система военных поселений охватила 4/5 населения страны; это был
яркий пример тотального государственного регулирования, осуществляемого военной монархией[45].
Таким образом, демографический цикл империи Хань
завершился социальной революцией, породившей тоталитарную монархию.
Познакомившись с кратким описанием происходившем в
ханьском цикле социально-экономических процессов, мы можем приступить к моделированию
цикла.
Итак, обозначим время (в годах) величиной t, площадь пашни - S(t), а численность населения - Y(t).
В китайских источниках имеются данные о населении и размерах пашни. Из рис. 8
видно, что пашня возрастала пропорционально населению до тех пор, пока не достигла
некоторой максимальной величины Sm,
которая в I-II веках составляла около 34 млн. га. Таким образом, мы можем
считать, что площадь пашни связана с численностью населения простой
зависимостью:
S(Y)=kY если kY<Sm
S(Y)= Sm если kY>Sm
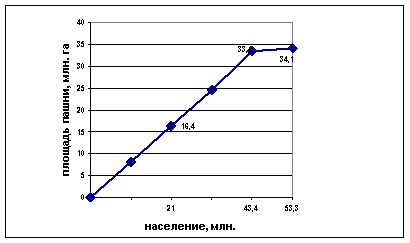
Рис. 8.
Зависимость площади пашни от численности населения[46].
Общество состоит из крестьян, арендаторов,
ремесленников и помещиков. Пусть Y(t)
есть число крестьян, Sp -
площадь крестьянской пашни, а Sa
- пашня, обрабатываемая арендаторами. Тогда площадь пашни крестьян можно
найти из следующих соотношений:
Sp(Y)=kY
если kY<Sm -Sa
Sp(Y)= Sm -
Sa если kY>Sm
- Sa
Построим хлебный бюджет для совокупности крестьянских
хозяйств. Пусть q - величина высева
на гектар пашни. Из китайских источников[47] известно,
что норма посева проса (бывшего в то время основной зерновой культурой)
составляла 1/10 даня на 1 му. Принимая во внимание, что в то время 1 дань был
равен
Далее, обозначим p0
минимальное потребление на душу населения; в нашем случае можно принять р0 равным
|
|
Реальное совокупное потребление будет равно P1 = p(u)Yt(t), а
реальные расходы на потребление и посев W1=M+P1,,
так что ко времени сбора следующего урожая у крестьян останутся переходящие
запасы, равные Zp = X(t) - W1 .
По вычислениям К. Чао урожайность проса (l) в этот период составляла около 96
катти с цинского му[51] т. е.
немногим более 9 ц/га. (такая урожайность была характерна для Китая и в
недавнем прошлом[52]).
Урожайность, разумеется, была непостоянной, и мы учтем это обстоятельство,
рассматривая параметр l как случайную величину (квадрат
равномерного распределения), меняющуюся в интервале (l0 - dl0,
l0+ dl0). Урожай следующего года будет равен U=lS/2;
из этого количества нужно вычесть налоги, которые составляют 1/30 урожая и 120
монет с каждого взрослого (23 монеты с подростка)[53]. В среднем
каждый китаец платил 60 монет; для того, чтобы получить эти деньги нужно было
продать часть урожая. Как отмечает В. М. Штейн, средняя цена зерна в этот
период была равна 30-40 монет за 1 дань[54], стало
быть, можно считать, что 60 монет эквивалентны
С учетом переходящих запасов количество зерна после
сбора урожая будет равно
X(t+1) = U - H + X(t) - W1 .
Теперь
остается определить численность населения в следующем году Yt(t+1). В классической логистической модели Р. Пирла
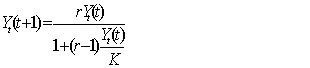
где r - коэффициент естественного прироста в
благоприятных условиях, а K - емкость
экологической ниши, т. е. максимально возможная численность населения при
имеющихся продовольственных ресурсах. В нашем случае К=P1/p0; кроме того, мы будем использовать
модернизированную модель, в которой член ![]() заменяется на
заменяется на  , где n -
показатель компенсации, введенный Мэйнардом Смитом и Сладкином[55]. Введение
этого показателя объясняется тем, что в человеческом обществе голод приводит не
только к высокой смертности, но также к восстаниям и войнам, резко
увеличивающим коэффициент смертности.
, где n -
показатель компенсации, введенный Мэйнардом Смитом и Сладкином[55]. Введение
этого показателя объясняется тем, что в человеческом обществе голод приводит не
только к высокой смертности, но также к восстаниям и войнам, резко
увеличивающим коэффициент смертности.
Рассмотрим
теперь случай, когда крестьяне испытывают недостаток зерна, т.е. X(t)<W. В таком случае, потребляя
зерно по «голодной норме» p0,
крестьяне к весне будут испытывать недостаток посевного зерна. Они продают
часть земли так, чтобы восполнить посевной фонд – или берут в долг, что в
конечном счете приводит к продаже. В некоторых случаях помещики, имея
ограниченный запас зерна, не могут купить все предложенные к продаже
крестьянские земли – тогда крестьяне уменьшают фонд потребления P1 так, что M+P1 = X(t). В этом случае u < p0 и душевое
потребление равно p(u)=P1 / Yt(t).
Если голод достигает больших размеров и грозит гибелью значительной части населения,
то власти (если у них есть зерно) выдают голодающим пособия, доводя, таким
образом, потребление до некоторой величины pu0.
По мере того
как крестьяне продают свои земли, постепенно развивается помещичье землевладение,
а площадь крестьянских земель уменьшается. Помещики приглашают на свои земли
арендаторов, которые отдают им половину урожая, следовательно, на одного
арендатора приходится вдвое большая площадь, чем на крестьянина - примерно
Рассмотрим теперь динамику численности арендаторов.
Обозначим Sa площадь
земель, на которых хозяйствуют арендаторы, Ya(t)
– численность арендаторов в году t ,
и Xa(t) – имеющиеся у них
запасы хлеба, за вычетом налогов и посевного фонда. Масса высеваемого
арендаторами зерна равна Ma =
qSa/2 а минимальное совокупное потребление Pa0 = p0Ya(t). Если Xa(t)> Pa0 то
арендаторы имеют излишки зерна, и в этом случае душевое потребление арендаторов
(pua) рассчитывается так
же, как для крестьян. Реальные расходы на потребление составят Pa= pua Ya(t),
так что ко времени сбора следующего урожая у арендаторов останутся запасы,
равные Xa(t) - Pa.
Урожай следующего года будет равен Ua
= lSa/2, а налоги - Hа
= Uа/30 + 0.05Yа(t). Поскольку арендатору за вычетом
налогов и посевного фонда причитается лишь половина урожая, то запасы зерна
после сбора урожая будут равны Xa(t+1)
= (Ua- Hа)/2 + Xa(t) - Pa . Емкость
экологической ниши для арендаторов определяется по формуле К= Pa/p0, а численность - так же, как для
крестьян. К расчетной численности каждый год добавляется величина Na – число крестьян, ставших
новыми арендаторами. Этим новым арендаторам помещики выделяют наделы в среднем
Помещики расходуют свои зерновые ресурсы не только в
ростовщических или потребительских целях, но и на приобретение ремесленных
изделий и на содержание слуг. Пусть численность ремесленников в год t составляет Yr(t) и у них имеются запасы хлеба Xr(t). Минимальное совокупное потребление составит Pr0 = p0Yr(t).
Если Xr(t)> Pr0
, то ремесленники имеют излишки зерна, и в этом случае их душевое потребление (pur) рассчитывается так же,
как для крестьян. Реальные расходы на потребление составят Pr= pur* Yr(t), так что ко времени
сбора следующего урожая у ремесленников останутся запасы, равные Xr(t) – Pr. Налоги
составляют Hr=0.05 Yr(t).
Если положить, что на долю ремесленников приходится kr % зерна, причитающегося помещикам, то запасы
следующего года составят Xr(t+1)
= kr(Ua-Ha)/2 - Hr + Xr(t)
– Pr . Емкость
экологической ниши для ремесленников определяется по формуле К = Pr/p0, а
численность – так же, как для крестьян.
В годы голода, когда крестьяне продают землю, часть из
них пытается заняться ремеслом – одни уходят в города, другие занимаются
ремеслом как подсобным промыслом. Для расчетов удобнее разделять ремесленников
и крестьян – к примеру, мы считаем, что четверо крестьян, получающих четвертую
часть дохода от ремесла эквивалентны трем крестьянам и одному ремесленнику.
Крестьяне в основном живут натуральным хозяйством, и ремесленники продают свои
товары тем, у кого есть избыток зерна – преимущественно помещикам. Количество
вновь открывающихся «вакансий» ремесленников и слуг ограничено приростом дохода
помещиков от эксплуатации размещенных в прошлом году арендаторов; если Da – земли новых арендаторов,
а Haa –
уплачиваемые ими налоги, то доход помещика с них составит
G = (lDa/2 - Haa )/2.
Из этого дохода
ремесленникам может поступить kr
%, и при норме потребления p0r численность
новых ремесленников и слуг может составить krG/p0r. Мы считаем
возможным брать величину p0r меньшей, чем p0, поскольку во время
голода в города устремляются множество безземельных крестьян, которые нищенствуют
и пробиваются случайными заработками.
После покупки ремесленных изделий и оплаты труда слуг
у помещиков остается часть дохода, которую они используют на потребление и
накопление запасов; мы будем считать, что доли, используемые на потребление и
накопление равны. Государство также производит накопление запасов; в соответствии
с рекомендацией трактата «Гуань-цзы» в государственные амбары откладывается
зерно, получаемое государством в качестве поземельного налога. Остальная часть
налогов расходуется на содержание армии и чиновников. Динамика численности
помещиков и чиновников (эти классы отчасти совпадали) в работе не
рассматривается, поскольку по отношению к основной массе населения эта
численность была пренебрежимо мала.
Большинство необходимых для расчетов
данных извлечено из посвященных данному периоду специальных исследований.
Однако математические модели обычно содержат некоторые неопределенные
параметры, которые подбираются путем численного эксперимента. В нашем случае
наиболее важен параметр n -
коэффициент компенсации, описывающий, в частности, смертность населения при
падении потребления p(u) ниже
«голодной нормы» p0 . Если
рассматривать традиционную логистическую модель (n=1), то при сокращении «голодной нормы» наполовину численность
населения убывает лишь на 3%. Это явно нереально, так же, как варианты n =2 и n=3 , поэтому мы будем рассматривать случаи n=4-6.
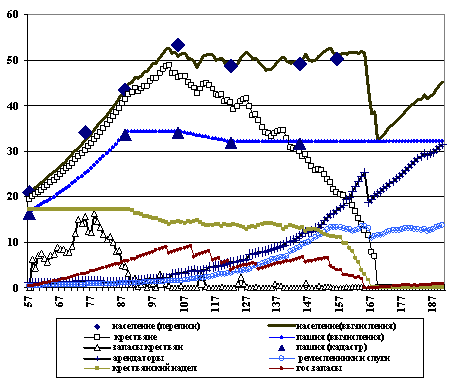
Рис. 9.
Численность населения, крестьян, арендаторов, ремесленников (млн. чел), пашня
(млн. га) и запасы крестьян (млн. т) по расчетным данным.
Каковы же результаты расчетов по
описанной модели? Рассмотрим графики, изображенные на рис. 9. Для этого графика
n =6, r=1.035 и урожайность, в
среднем равная 9.1 ц/га, меняется в пределах от 4,6 до 13,7 ц/га.
Присутствие случайных колебаний
урожайности обуславливает «вибрирующий» характер кривых и при различных
прогонах программы результаты могут меняться - иногда довольно существенно. Однако до 100 года колебания урожайности
почти не влияют на рост численности населения; как показывают расчеты, в этот
период у крестьян имеются большие запасы зерна, и неурожай не приводит к
голоду; кривая роста численности населения «заглажена» и устойчива. Как
можно заключить из графика, расчетная численность населения достаточно хорошо
согласуется с данными переписей. Согласуются и общие тенденции: в 57-85 годах
крестьяне интенсивно распахивали землю и у них скопились большие запасы зерна.
Потребление в этот период было высоким и численность населения быстро
увеличивалась. После 85 года с постепенным исчерпанием резервов свободных
земель внутренняя колонизация замедлилась, а население продолжало расти, так
что потребление стало превышать размеры урожаев и запасы стали сокращаться.
Около 100 года запасы исчерпались и
динамика роста населения резко изменилось. Все доступные (при тогдашней
технологии) земли к этому времени были уже распаханы, экологическая ниша была
полностью заполнена и рост населения прекратился. Потребление упало до
критического уровня, едва обеспечивающего выживание. В годы неурожаев приходит
голод, кривая численности населения начинает колебаться - тем сильнее, чем
больше разброс урожайности. Источники того времени говорят о постоянно повторяющемся
голоде и о восстаниях голодающих[56]. Чтобы
облегчить страдания населения, власти раздавали беднякам зерно из государственных
амбаров[57]. Расчеты
показывают, что без стабилизирующих мероприятий государства катастрофа могла
произойти гораздо раньше, чем она случилась в действительности.
В период после 100 года меняется характер
протекавших в обществе экономических процессов. До этого времени численность ремесленников
и арендаторов была невелика, и как
показывают расчеты, она практически не увеличивалась. Численность крестьян
возрастала и крестьянское хозяйство сохраняло в целом стабильный характер.
После 100 года эта стабильность нарушается; нехватка земли порождает голод, а
голод заставляет крестьян продавать землю помещикам, что приводит к еще большей
нехватке земли. Начинается постепенно ускоряющийся процесс разорения крестьян и
роста крупной помещичьей собственности. Часть разорившихся крестьян становится
арендаторами у помещиков, однако получаемые ими наделы едва позволяют выжить, а
с ростом семей арендаторов ждет то же, что и крестьян - голод. Часть крестьян
уходит в города и пытается заработать на жизнь ремеслом, многие становятся
бродягами и находят голодную смерть на дорогах. Расчеты показывают уменьшение
численности крестьян и рост численности арендаторов, ремесленников и помещичьих
слуг. Доходы помещиков растут, и это позволяет им тратить большую часть доходов
на покупку ремесленных изделий - это объясняет рост числа ремесленников,
расцвет городов и торговли. Этот парадокс - расцвет городов на фоне бедствующей
деревни - отмечали многие современники[58]. Однако
расцвет был обманчивым, города были переполнены безработными и нищими, уровень
потребления ремесленников был низким, и в годы неурожаев они, как и крестьяне,
страдали от голода и спасались государственными раздачами зерна.
Продажа земли крестьянами проводила к нарастанию
малоземелья, уменьшению урожаев, а следовательно, к нехватке зерна и к новым
продажам. В 150-170-х годах этот процесс принял лавинообразный характер.
Система государственных амбаров оказалась не в состоянии прокормить всех разорившихся
крестьян - государственные ресурсы были исчерпаны, амбары опустели. Известно,
что после 156 года отсутствие средств у государства привело к прекращению
выдачи пособий голодающим[59]. В 160-х и
170-х годах восстания в разных провинциях происходили практически непрерывно. В
отсутствие запасов и государственной помощи любой большой неурожай должен был
привести к катастрофе. Ввиду присутствия случайной величины в наших расчетах
время катастрофы варьирует в промежутке 160-200 гг.; при большем разбросе
урожайности катастрофа может произойти и раньше. Меняются также масштабы катастрофы
- чаще всего она приводит к гибели 1/3-2/3 населения. В реальности, катастрофа
разразилась в 184 году - голод и эпидемия привели к грандиозному восстанию
"желтых повязок". Восстание разрушило государственный аппарат империи
Хань и породило долгие внутренние войны. Разрушение ирригационных систем еще
более усилило голод - все эти бедствия слились в единый катаклизм, погубивший
5/6 населения[60]. Конечно,
эти массы населения погибли не в один год, как показывает график на рис. 9;
здесь мы сталкиваемся с условностью моделирования, которое не может достаточно
достоверно описать динамику катастрофы. Однако в целом предлагаемая модель
помогает понять характер социально-экономических процессов и причины катастрофического
кризиса. Необходимо отметить, что принципы, лежащие в основе модели, являются
общими для всех аграрных обществ и отражают общую динамику их развития.
Таким
образом, построенная в этом пункте модель подтверждает основные положения неомальтузианской
теории о том, что перенаселение приводит к разорению крестьян, росту крупного
землевладения, росту числа арендаторов и ремесленников. Кроме того, мы видим,
что в период роста крестьяне имеют достаточные запасы зерна и колебания
урожайности в этот период не могут привести к катастрофе. Однако в последующий период перенаселения
такие запасы отсутствуют, что делает экономическую систему неустойчивой, и
большой неурожай может привести к драматическим последствиям.
В качестве подтверждения
этого тезиса можно сослаться, например, на наблюдения выдающегося философа Ибн
Халдуна, специально изучавшего циклы смены династий в арабском мире. Ибн Халдун
прямо указывает на то, что, хотя крестьяне всегда создают запасы продовольствия
на случай неурожая, в последней фазе цикла эти запасы истощаются, и в случае
недорода недостаток запасов приводит к всеобщему голоду, а голод вызывает
эпидемии[61]. Иллюстрацией этих слов могут послужить графики,
приведенные ниже, в пунктах 3.2 и 3.3; эти графики показывают, что катастрофы в
Египте и Ираке происходили в случаях, когда в предыдущий достаточно длительный
период потребление падало до крайне
низкого уровня, а цены, соответственно, были чрезвычайно высокими.
2.3 Фазы демографического цикла
Результаты
моделирования указывают на принципиально различную демографическую динамику в
различные периоды и помогают выделить фазы демографического цикла. Как
отмечалось выше, Ф. Симиан – и вслед за ним многие другие историки – выделял в
экономическом цикле фазу роста
(фазу А или «повышательную тенденцию») и фазу убывания (фазу В или
понижательную тенденцию). Э. Ле Руа Ладюри на примере Южной Франции дал более
подробное описание демографического цикла (Ладюри называл этот цикл «большим
аграрным циклом») с выделением четырех фаз[62].
Первая,
«предварительная», фаза наступает после того как голод, войны и эпидемии в
конце предыдущего цикла резко уменьшили численность населения, поэтому она
характеризуется малой плотностью населения и изобилием свободных земель,
низкими ценами на продовольствие, относительно высоким уровнем потребления
крестьян, низкой земельной рентой.
Вторая, «фаза
роста», характеризуется быстрым ростом населения, интенсивной распашкой свободных
земель, но вместе с тем уменьшением и дроблением крестьянских хозяйств, ростом
цен, падением реальной заработной платы и нарастанием социальной напряженности.
«Мальтус и Рикардо пожимают друг другу руки», - писал Ле Руа Ладюри, отмечая
полное совпадение наблюдавшихся в Лангедоке явлений с мальтузианско-рикардианской
теорией[63].
Третья «фаза
зрелости», характеризуется замедлением или прекращением роста населения, крестьянским
малоземельем, ростом ренты и налогов, высокими ценами на продовольствие, низким
уровнем реальной заработной платы и потребления, войнами. «Эта зрелость не
является счастливой», - отмечал Ле Руа Ладюри[64].
Наконец, четвертая
фаза – это фаза упадка, характеризуемая голодом, эпидемиями, сокращением
численности населения.
Легко заметить, что фазы Ле Руа Ладюри в основном повторяют те
признаки, которые соответствуют фазам цикла в мальтузианско-рикардианской
теории. В то же время эта характеристика различных фаз сделана французским
исследователем на основе изучения аграрной истории Южной Франции и не отражает
многообразие явлений, наблюдавшихся в других странах. Более подробное перечисление
признаков перенаселения в различных странах имеется в цитировавшейся ранее
монографии Д. Григга, это, в первую очередь: крестьянское малоземелье,
дробление хозяйств, рост продовольственных цен и арендной платы, падение
потребления до прожиточного минимума, рост смертности, задержки браков и
ограничение рождаемости, нищета, бандитизм, эмиграция (постоянная и сезонная),
большое количество безземельных, интенсификация земледелия, ирригация и
мелиорация, переход безземельных крестьян к занятиям ремеслом и торговлей и в
связи с этим – переселение сельских жителей в города, рост городов, который,
однако не решает проблемы перенаселения[65]. Еще одно
важное следствие перенаселения – это рост крупного землевладения и усиление
социальной дифференциации; наличие устойчивой связи между плотностью населения
и уровнем дифференциации была доказано А. В. Коротаевым на основе
статистического критерия «хи-квадрат»[66]. А. В.
Коротаев указал также на наличие статистической связи между плотностью
населения и уровнем централизации[67].
Главный признак
перенаселения – и его определение по Мальтусу – это падение потребления до
минимального уровня[68]. Некоторые другие из перечисленных здесь признаков
являются часто встречающимися, но не обязательными следствиями перенаселения.
Например, задержка браков и ограничение рождаемости были характерны для Европы,
но не характерны, в частности, для Китая (там практиковался инфантицид)[69].
Еще один упоминаемый
Э. Ле Руа Ладури признак перенаселения, «замедление или прекращение роста
населения», теоретически связан с построениями Мальтуса, но не учитывает
поднимаемого критиками неомальтузианства вопроса об эластичности экологической
ниши. В известной работе Э. Босеруп[70] на африканских материалах было показано, что перенаселение стимулирует
попытки увеличения продуктивности земледелия и давление населения способно до определенного предела раздвигать
стенки экологической ниши. Благодаря этому рост населения может происходить и в
условиях перенаселения - но он ограничен увеличением продуктивности
земледелия, то есть население увеличивается в той степени, в которой возрастает
урожайность, но никак не более. Эта ситуация иллюстрируется рис. 10, показывающем динамику населения и
потребления в странах Африки южнее Сахары во второй половине XX века. Как видно из графика,
кривая потребления в этот период шла вдоль асимптоты, соответствующей
минимальному уровню потребления, но численность населения росла настолько,
насколько позволял рост продуктивности земледелия.
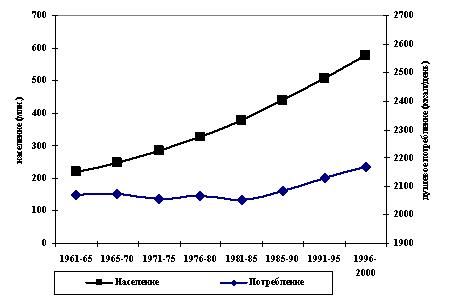
Рис. 10. Динамика населения и потребления в странах
Африки южнее Сахары[71].
Что касается
последней фазы цикла, главный признак которой – уменьшение численности населения,
то эта тема наиболее подробно разрабатывалась Э. Лабруссом, который доказывал,
что череда французских революций – революции 1789, 1830 и 1848 годов - является
завершающей фазой третьего европейского экономического цикла[72]. Тезис о том,
что завершением цикла часто является социальная революция на многочисленных
исторических примерах был проиллюстрирован в нашей, совместной с акад. В. В.
Алексеевым, статье, где приведены также и некоторые статистические данные о
связи уровня потребления и социальных революций[73]. В последней работе А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д.
А. Халтуриной на материале стран Африки южнее Сахары было доказано существование
значимой статистической связи между уровнем потребления и происходящими в
различных странах политическими переворотами, массовыми беспорядками и
гражданскими войнами. В частности, установлено, что при понижении потребления
ниже 1850 ккал на трехлетний срок стабильность сохранялась только в 17%
известных случаев, в 50% случаев имели место массовые беспорядки и политические
перевороты, в 33% случаев голод порождал гражданскую войну[74].
Перенаселение и
падение потребления приводили к распространению массового недовольства и
высокой социальной напряженности. В то же время, как отмечалось выше, большую
роль играли случайные факторы, такие как неурожаи и эпидемии. Эти сами по себе,
хотя и случайные, но достаточно обычные для традиционного общества явления в
условиях постоянного недоедания и отсутствия запасов продовольствия приобретали
драматические масштабы. Участившиеся голодные годы вызывали городские бунты и
крестьянские восстания, особенно характерные для истории Востока[75]. Военное разорение при подавлении восстаний, в свою
очередь, влекло за собой голод и эпидемии; внешние враги не упускали случая
воспользоваться кризисом для вторжения, и события могли принять характер
глобальной катастрофы – примером может служить катастрофа, произошедшая в Китае
в середине XVII века.
Многими исследованиями отмечался факт наличия связи между
перенаселением и автократией[76]. Более
того, существует мнение, что масштабный социальный кризис, сопровождаемый
голодом и войной (и характерный для последней фазы демографического цикла),
порождает автократию в ее крайней форме – в форме этатистского государства.
Наиболее аргументировано эта точка изложена Питиримом Сорокиным[77]. П. Сорокин
определяет «идеальное» этатистское общество как общество, в котором государство
регулирует все стороны жизни граждан, которое характеризуется «деспотической»
властью и отсутствием (или ограничением) частной собственности на средства
производства (в аграрном обществе – главным образом, на землю)[78]. «Голод –
отец этатизма, - писал П. Сорокин, - война - его мать»[79]. Многие
историки, вслед за Р. Мунье, связывают торжество европейского абсолютизма с
кризисом XVII века[80]. Как мы увидим
ниже (см. п. 3.6) социальные революции и реформы были достаточно обычным
исходом демографических циклов: в 14 из 17 исследованных циклов в странах
Востока, которые начались в условиях господства частной собственности на землю,
революции или реформы в последних фазах цикла привели к установлению
этатистской монархии. Эти социальные перевороты сопровождались либо радикальным
ограничением крупного землевладения, либо его полной ликвидацией вплоть до
установления государственной собственности на землю[81].
Экосоциальный кризис часто вызывает разрушение
государства и может стать началом длительного периода социальной нестабильности,
в течение которого периодически возобновляющиеся внутренние и внешние войны
сопровождаются разрухой, голодом и эпидемиями. Такое состояние посткризисной
депрессии препятствует возобновлению роста населения в следующем
демографическом цикле, и этот период называют интерциклом. П. Турчин на материале Англии, Китая и Римской
империи, установил наличие тесной статистической связи между коэффициентом
естественного прироста и индексом социальной нестабильности[82]. Таким
образом, можно утверждать, что задержка в возобновлении роста населения
(несмотря на повышение потребления после кризиса) непосредственно связана с
внутренними и внешними войнами, мятежами и восстаниями, которые являются более
или менее отдаленными последствиями экосоциального кризиса, нарушившего
стабильное состояние государства.
Интерцикл между двумя циклами наблюдается не всегда,
но в некоторых случаях он может быть достаточно продолжительным, так например,
после кризиса времен Черной смерти в Англии и Франции интерцикл продолжался
около столетия. В интерциклах большой длительности динамика населения зависит
от интенсивности внешних войн и внутренних конфликтов. Так, например, во
Франции, после экосоциального кризиса 1340-1360-х годов наступил период
успокоения, в течение которого понесенные страной потери были частично
компенсированы. Однако нарушенная кризисом государственная и общественная
стабильность не была вполне восстановлена, и в 1410-1430-х годах разразился
новый кризис, оказавшийся в некоторых областях более губительным, чем первый[83].
Возвращаясь к
результатам моделирования демографического цикла можно отметить принципиально
различную демографическую динамику в трех последовательных периодах. В первом
периоде наблюдается достаточно быстрый и устойчивый рост населения, причем эта
устойчивость достигается за счет наличия в крестьянских хозяйствах запасов
хлеба, позволяющих сгладить последствия неурожаев. Во втором периоде
наступившее малоземелье приводит к тому, что крестьяне живут «со дня на день»,
у них, как правило, отсутствуют запасы хлеба, поэтому неурожаи приводят к
частым голодовкам, рост населения становится неустойчивым и замедляется или
даже прекращается, в годы голода смертность превосходит рождаемость и кривая
численности населения «вибрирует». Рано или поздно случайные факторы, неурожаи
и войны, нарушают это неустойчивое равновесие и начинается третий период – это
период демографической катастрофы, когда к голоду присоединяются эпидемии и
междоусобные войны, а население резко уменьшается. Длительность этого периода
зависит от интенсивности междоусобных войн.
Можно заметить, что
фазы демографического цикла, выделяемые в результате моделирования, в целом
совпадают с фазами, отмечаемыми Э. Ле Руа Ладюри, за исключением его первой
(«предварительной») фазы, которая оказывается излишней. Объединяя результаты
моделирования с имеющимися в литературе данными можно предложить следующую
характеристику цикла с разбиением на три фазы:
Первая фаза цикла – это период
внутренней колонизации (или фаза
роста). Для этого периода характерны наличие
свободных земель, быстрый рост населения, рост посевных площадей, низкие, но постепенно
растущие цены на хлеб, высокая реальная заработная плата, относительно высокий
(но постепенно понижающийся) уровень потребления, низкий уровень земельной
ренты, строительство новых (или восстановление разрушенных ранее) поселений,
ограниченное развитие городов и ремесел, незначительное развитие аренды и
ростовщичества.
После исчерпания ресурсов свободных земель наступает вторая
фаза, период Сжатия – этот термин
предложен известным турецким историком Халилом Инальчиком[84]. Для фазы Сжатия характерны отсутствие свободных земель, крестьянское малоземелье,
высокие цены на хлеб, низкий уровень реальной заработной платы и потребления
основной массы населения, ограниченность демографического роста ростом
урожайности, высокий уровень земельной ренты, частые сообщения о голоде, эпидемиях
и стихийных бедствиях, стихийное ограничение рождаемости, разорение
крестьян-собственников, распространение ростовщичества и аренды, высокие цены
на землю, рост крупного землевладения, уход разоренных крестьян в города, где
они пытаются заработать на жизнь ремеслом или мелкой торговлей, рост городов,
развитие ремесел и торговли, большое количество безработных и нищих, голодные
бунты и восстания, активизация народных движений под лозунгами передела собственности
и социальной справедливости, попытки проведения социальных реформ, направленных
на облегчение положения народа, тенденция к увеличению централизации и
установлению этатистской монархии, попытки увеличения продуктивности земель, в
частности, с помощью ирригации и мелиорации,
поощрительная политика в области колонизации и эмиграции, ввоз продовольствия
из других стран (или районов), внешние войны с целью приобретения новых земель
и понижения демографического давления. Экономическая ситуация в этот период
неустойчива, у крестьян отсутствуют необходимые запасы зерна, и любой крупный
неурожай или война могут привести к голоду и экосоциальному кризису. «Экономика
предельно напряженная», - писал П. Шоню[85].
Третья фаза демографического цикла – это фаза экосоциального кризиса; для этого
периода характерны голод, эпидемии, восстания
и гражданские войны, внешние войны, гибель больших масс населения, принимающая
характер демографической катастрофы, разрушение или запустение многих городов,
упадок ремесла и торговли, высокие цены на хлеб, низкие цены на землю, гибель
значительного числа крупных собственников и перераспределение собственности,
социальные реформы, в некоторых случаях принимающие масштабы революции,
порождающей этатистскую монархию.
После третьей фазы в некоторых случаях имеет место
период депрессии или интерцикл – период социальной нестабильности, внутренних
конфликтов и внешних войн, в течение которого могут наблюдаться повторные
экосоциальные кризисы. Новый демографический цикл начинается лишь после того
как прекращаются войны и восстанавливается государственная и общественная стабильность.