С.
А. НЕФЕДОВ
НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ИСТОРИИ
КИЕВСКОЙ РУСИ
Статья
депонирована в ИНИОН РАН 14.03.01 № 556323
Эта статья посвящена рассмотрению истории Киевской Руси с
позиций нового методического подхода; этот подход является комбинацией двух
теорий - теории культурных кругов и
теории демографических циклов. Как известно, теория демографических циклов
изучает процессы изменения численности населения в условиях ограниченности
природных ресурсов. Начало этой теории было положено Раймондом Пирлом[1], доказавшим, что изменение численности
популяций животных (и, возможно, людей)
описывается так называемой
логистической кривой (рис. 1).
Логистическая кривая показывает, что
поначалу, в условиях изобилия ресурсов и высокого потребления, численность
популяции быстро возрастает. Затем рост
замедляется и население стабилизируется вблизи асимптоты, соответствующей
максимально возможной численности при полном использовании природных ресурсов.
Достижение популяцией максимально возможной численности означает существование на уровне минимального
потребления, на грани выживания, когда естественный прирост полностью
элиминируется голодной смертностью. Это состояние «голодного гомеостазиса» в
действительности оказывается неустойчивым, колебания природных факторов
приводят к «демографической катастрофе», катастрофическому голоду или эпидемии.
Катастрофа приводит к резкому уменьшению
численности населения, после чего начинается период восстановления в новом
демографическом цикле.
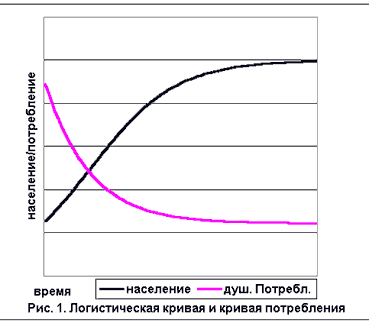 Существование
демографических циклов в истории было доказано
Вильгельмом Абелем и Майклом Постаном
в 30-х годах XX
века[2]. Проанализировав данные об экономической коньюктуре в XII-XIV
веках, В. Абель и М. Постан показали, что рост численности населения в этот
период привел к исчерпанию ресурсов пахотных земель; это, в свою очередь,
привело к нехватке продовольствия, росту цен на зерно и голоду. Крестьяне,
будучи не в состоянии прокормиться на уменьшавшихся наследственных наделах,
уходили в поисках работы в города. Рост городов сопровождался расцветом
ремесел, но ремесла не могли прокормить всю массу излишнего населения, города
были переполнены безработными и нищими.
Голод и нищета приводили к восстаниям, как в городах, так и в деревнях;
эти восстания приняли во Фландрии характер социальной революции; во Франции
социальная борьба привела к утверждению абсолютизма. В конце концов, эпидемия
Черной Смерти, разразившаяся в условиях, когда миллионы людей были ослаблены
постоянным недоеданием, привела к гибели половины населения Европы. Это была
«демографическая катастрофа», завершившая демографический цикл, – таким
образом, было показано, что описанные Р. Пирлом циклы реально существовали в
истории.
Существование
демографических циклов в истории было доказано
Вильгельмом Абелем и Майклом Постаном
в 30-х годах XX
века[2]. Проанализировав данные об экономической коньюктуре в XII-XIV
веках, В. Абель и М. Постан показали, что рост численности населения в этот
период привел к исчерпанию ресурсов пахотных земель; это, в свою очередь,
привело к нехватке продовольствия, росту цен на зерно и голоду. Крестьяне,
будучи не в состоянии прокормиться на уменьшавшихся наследственных наделах,
уходили в поисках работы в города. Рост городов сопровождался расцветом
ремесел, но ремесла не могли прокормить всю массу излишнего населения, города
были переполнены безработными и нищими.
Голод и нищета приводили к восстаниям, как в городах, так и в деревнях;
эти восстания приняли во Фландрии характер социальной революции; во Франции
социальная борьба привела к утверждению абсолютизма. В конце концов, эпидемия
Черной Смерти, разразившаяся в условиях, когда миллионы людей были ослаблены
постоянным недоеданием, привела к гибели половины населения Европы. Это была
«демографическая катастрофа», завершившая демографический цикл, – таким
образом, было показано, что описанные Р. Пирлом циклы реально существовали в
истории.
После работ Абеля и Постана теория
демографических циклов получила широкое признание, ее изложение можно найти в
трудах крупнейших ученых, таких, как Ф. Бродель, Р. Камерон, Э. Леруа Ладюри[3].
Специалисты выделяют в истории Европы восемь демографических циклов: цикл
римской республики, цикл эпохи принципата, цикл христианской империи,
прерванный нашествиями варваров; цикл времен Каролингов, цикл эпохи
средневековья, завершившийся Великой Чумой;
первый цикл нового времени, завершившийся английской революцией, Фрондой
и Тридцатилетней войной; второй цикл нового времени, завершившийся Великой
французской революцией и наполеоновскими войнами. Каждый демографический цикл
начинается с периода внутренней колонизации (или периода восстановления),
для которого характерны наличие свободных
земель, рост населения, рост посевных площадей, строительство новых (или
восстановление разрушенных ранее) поселений, низкие цены на хлеб, дороговизна
рабочей силы, относительно высокий уровень потребления, ограниченное развитие
городов и ремесел, незначительное развитие
аренды и ростовщичества. После исчерпания ресурсов свободных земель
наступает период Сжатия, для этой фазы характерны исчерпание ресурсов свободных земель, высокие цены на землю,
крестьянское малоземелье, разорение крестьян-собственников, распространение
ростовщичества и аренды, рост крупного землевладения, низкий уровень
потребления основной массы населения, падение уровня реальной заработной платы,
дешевизна рабочей силы, высокие цены на хлеб, частые сообщения о голоде и
стихийных бедствиях, приостановка роста населения, уход разоренных крестьян в
города, рост городов, развитие ремесел и торговли, большое количество
безработных и нищих, голодные бунты и восстания, активизация народных движений
под лозунгами передела собственности и
социальной справедливости, попытки проведения социальных реформ с целью
облегчения положения народа, внешние войны с целью приобретения новых земель и
понижения демографического давления.
В конечном счете, усугубляющаяся
диспропорция между численностью населения и наличными продовольственными
ресурсами приводит к экосоциальному кризису; для этого
периода характерны голод, эпидемии, восстания и гражданские
войны, внешние войны, гибель больших масс населения, принимающая характер демографической катастрофы, разрушение или запустение многих
городов, упадок ремесла и торговли, высокие цены на хлеб, низкие цены на землю,
гибель значительного числа крупных собственников и перераспределение собственности, социальные
реформы, в некоторых случаях принимающие масштабы революции, установление
сильной монархической власти.
Перечисленные выше характеристики каждой
стадии демографического цикла используются как признаки при выделении циклов в
истории различных стран.
Теория демографических циклов дает общую
картину протекавших в Западной Европе
социально-экономических процессов и помогает объяснить основные моменты
западноевропейской истории. Она помогает объяснить и историю России – но лишь
историю ее внутреннего развития.
***
В то время как теория демографических
циклов описывает внутренние факторы
истории различных обществ, теория культурных кругов изучает силы, действующие
на общество извне.
Теория культурных кругов – это вариант диффузионизма, концепции, которая хорошо
известна современным историкам. Создатель теории культурных кругов Фриц Гребнер
считал, что сходные явления в культуре различных народов объясняются
происхождением этих явлений из одного центра[4].
Эта теория исходит из постулата, что важнейшие элементы человеческой культуры
появляются лишь однажды и лишь в одном месте в результате великих, фундаментальных открытий. В общем
смысле, фундаментальные открытия -
это открытия, позволяющие расширить экологическую нишу этноса. Это могут быть
открытия в области производства пищи, например, доместикация растений,
позволяющая увеличить плотность населения в десятки и сотни раз. Это может быть
новое оружие, позволяющее раздвинуть границы обитания за счет соседей. Эффект
этих открытий таков, что они дают народу-первооткрывателю решающее преимущество
перед другими народами. Используя эти преимущества, народ, избранный богом,
начинает расселяться из мест своего обитания, захватывать и осваивать новые
территории. Прежние обитатели этих территорий либо истребляются, либо
вытесняются пришельцами, либо подчиняются им и перенимают их культуру. Народы,
находящиеся перед фронтом наступления, в свою очередь, стремятся перенять
оружие пришельцев – происходит диффузия фундаментальных элементов культуры, они
распространяются во все стороны, очерчивая культурный
круг, область распространения того или иного фундаментального открытия.
Теория культурных кругов дает историку
метод философского осмысления событий, метод, позволяющий выделить суть
происходящего. К примеру, долгое время оставались загадочными причины массовых
миграций арийских народов в XVIII-XVI веках до н. э. – в это время арии заняли
часть Индии и Ирана, прорвались на Ближний Восток, и, по мнению некоторых
исследователей, вторглись в Китай. Лишь сравнительно недавно благодаря
открытиям российских археологов стало ясным, что первопричиной этой грандиозной
волны нашествий было изобретение боевой колесницы – точнее, создание конной
запряжки и освоение тактики боевого использования колесниц. Боевая колесница
была фундаментальным открытием ариев,
а их миграции из Великой Степи – это было распространение культурного круга, археологически фиксируемого как область
захоронений с конями и колесницами.
Другой пример фундаментального открытия – освоение металлургии железа.
Как известно, методы холодной ковки железа были освоены горцами Малой Азии в
XIV веке до н. э. – однако это открытие долгое время никак не сказывалось на
жизни древневосточных обществ. Лишь в середине VIII века ассирийский царь
Тиглатпаласар Ш создал тактику использования железа в военных целях – он создал
вооруженный железными мечами «царский
полк». Это было фундаментальное открытие, за которым последовала волна
ассирийских завоеваний и создание великой Ассирийской державы – нового
культурного круга, компонентами которого были не только железные мечи и регулярная
армия, но и все ассирийские традиции, в том числе и самодержавная власть
царей. Ассирийская держава погибла в
конце VII века до н. э. в результате нашествия мидян и скифов. Скифы были
первым народом, научившимся стрелять на скаку из лука, и передавшим конную
тактику мидянам и персам. Появление
кавалерии было новым фундаментальным открытием, вызвавшим волну завоеваний,
результатом которой было рождение мировой Персидской державы. Персов сменили
македоняне, создавшие македонскую фалангу – новое оружие, против которого
оказалась бессильна конница персов. Фаланга воочию продемонстрировала, что
такое фундаментальное открытие – до тех пор мало кому известный малочисленный
народ внезапно вырвался на арену истории, покорив половину Азии. Завоевания Александра
Македонского породили культурный круг, который называют эллинистической
цивилизацией – на остриях своих сарисс македоняне разнесли греческую культуру
по всему Ближнему Востоку. В начале П века до н.э. македонская фаланга была
разгромлена римскими легионами – римляне создали маневренную тактику полевых
сражений; это было новое фундаментальное открытие, которое сделало Рим
господином Средиземноморья. Победы легионов, в конечном счете, породили новый
культурный круг – тот мир, который называли рах Pomana.
Таким образом, теория культурных кругов
представляет историю как динамичную
картину распространения культурных кругов, порождаемых происходящими в разных
странах фундаментальными открытиями. История отдельной страны в рамках этой концепции
представляется как история адаптации к набегающим с разных сторон культурным
кругам, как история трансформации общества под воздействием внешних факторов,
таких, как нашествие, военная угроза или культурное влияние могущественных
соседей. В исторической науке нет общепринятого термина для обозначения такой
трансформации, в конкретных случаях говорят о эллинизации, романизиции,
исламизации, модернизации и так далее. Поскольку речь идет не только о
перенимании чуждых порядков, но и о синтезе новых порядков и старых традиций,
то мы будем называть этот процесс процессом
социального синтеза.
***
По отношению к областям древних
ближневосточных цивилизаций Великая Русская равнина представляет собой особый
мир. Это огромные пространства земель, расположенные далеко на периферии
земледельческой цивилизации, пространства, освоение которых началось
сравнительно поздно – в самом конце эпохи Древнего мира. Ко времени становления
Киевской Руси история Востока насчитывала уже несколько тысячелетий, здесь уже
давно были освоены все удобные земли и давно ощущалось перенаселение, давно
появились города и могущественные государства. В то время как история Востока
уже несколько тысячелетий пульсировала в ритме демографических циклов, на восточноевропейской
равнине в VII –VIII
веках н. э. еще продолжалось медленное расселение земледельцев. В лесном
Поднепровье деревни располагались по берегам рек, они были довольно большими и
насчитывали десяток-другой дворов - это
были поселения общин, занимавшихся подсечным земледелием[5]. Вокруг большого
поселения, общинного центра, иногда располагались маленькие деревни и хутора.
Общину крестьян-земледельцев называли «миром» или «вервью»; в то время она состояла
по большей части из кровных родственников, умерших хоронили в одном кургане, и
среди захоронений не было таких, которые бы выделялись своим богатством[6]. Подсечное земледелие
предполагало равенство и коллективизм: расчистка подсеки в девственном лесу
требовала совместного и упорного труда всех членов общины, но этот труд
вознаграждался богатым урожаем – в среднем сам-12, а иногда до сам-30[7]. Подсека плодоносила
два-три года, поэтому общинники постоянно расчищали новые участки – благо земли
было много. Необъятные лесные
пространства дарили славянам изобилие;
один из греческих писателей отмечал у славян «большое количество
разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и
пшеницы»[8]. В начале «Повести
временных лет», в сказании о призвании варягов, ильменские словене говорят, что
«земля наша велика и обильна» - слово «обилие» тогда означало «обилие хлеба»[9].
«Не было в них правды и встал род на род,
и была у них усобица и стали воевать сами с собой, - говорит «Повесть временных
лет». - И сказали они себе: «Поищем себе
князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к
руси. Те варяги звались русью подобно тому, как другие называются свеи (шведы),
а иные норманны и англы, а еще иные готландцы – вот так и эти прозывались»[10]. Арабские историки IX-XI
веков сообщают, что русы жили на острове в море[11] – возможно, имелся в виду
остров Готланд, бывший центром балтийской торговли с Востоком[12]. «Повесть временных лет»
говорит, что славяне до призвания варягов были вынуждены платить им дань[13] – очевидно, варяги
совершали набеги на земли славян. Это было время, когда набеги норманнов
приводили в ужас Западную Европу, когда варяги разграбили почти все европейские
города и опустошили обширные территории. Варяги-норманны одерживали свои победы
благодаря новому оружию, этим оружием
был дракар – мореходное судно с 40-70
гребцами и прямоугольным парусом. Отличительным качеством дракара было то, что
он мог с одинаковой легкостью преодолевать моря и подниматься по рекам, его можно
было даже перетаскивать волоком через водоразделы[14]. Дракар – это и было фундаментальное открытие норманнов.
Благодаря дракару норманны могли внезапно появляться едва ли не в любом месте –
там, где хотели; флотилия из 50-100 кораблей высаживала несколько тысяч воинов,
которые грабили города и села и уходили, если противник собирал крупные силы.
Нашествие норманнов охватило всю Европу; за какое-нибудь столетие норманны
разграбили почти все европейские города и опустошили многие сельские местности.
Норманнам удалось закрепиться на побережье Англии и Франции, они повсюду
пытались создавать свой опорные пункты и собирали дань с окрестных жителей. На
Востоке Европы положение было, по-видимому, таким же, как на Западе. В польском
Поморье, на Западной Двине, на Волхове варяги устраивали свои поселения и
пытались подчинить местное население[15]. «Приглашенные»
ильменскими словенами варяги-русь во главе с конунгом Рюриком также повели себя
как завоеватели, они подчинили славян и стали собирать с них дань[16]. В 882 году преемник
Рюрика Олег (Хельги) совершил поход вниз
по Днепру и утвердился в Киеве. «И были у него варяги и словене и прочие,
прозвавшиеся Русью. Тот Олег начал ставить города и установил дань славянам и
кривичам, и мери…»[17] «Городами» (от
скандинавского «гард»[18]) тогда чаще всего
называли маленькие крепостцы, в которых
стояли гарнизоны[19],
и откуда варяги-русь выходили на сбор дани. Относящиеся к этому периоду
археологические данные свидетельствуют о гибели многих общинных центров и
появлении на их месте княжеских крепостей[20]. Покорение и
«примучивание» славянских племен продолжалось около столетия; одним из
последних эпизодов этой долгой войны было восстание древлян в 946 году;
древляне подверглись беспощадному истреблению, уцелевшие были обращены в рабов
и поделены между дружинниками-русами [21].
У арабских историков того времени
сохранились сведения о взаимоотношениях
русов и славян. «Постоянно эти люди, - пишет о русах арабский хронист Гардизи,
- ходят войной на славян, [идут] на кораблях, захватывают славян, превращают в
рабов, отвозят к хазарам и булгарам и там продают. У них нет посевов и
земледелия, посев их – грабеж славян… Постоянно по сотне и по двести [человек]
они ходят на славян, насилием берут у них припасы, чтобы там существовать;
много людей из славян отправляются туда и служат русам, чтобы посредством
службы обезопасить себя»[22]. Эти известия в общих
чертах согласуются с сообщением византийского императора Константина
Багрянородного: «Когда наступает ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со
всеми Руссами из Киева и отправляются в
полюдье, то есть в круговой объезд, а именно в славянские земли Вервианов,
Другувитов, Кривичей, Севериев и остальных славян, платящих дань Руссам…»
Собрав дань, русы грузили ее на корабли, и огромная флотилия из сотен и тысяч[23] лодий отправлялась в
Константинополь. Флотилия везла множество рабов, когда корабли достигали
днепровских порогов, скованных цепями рабов высаживали и вели по берегу.
Рабы-«челядь» были главной добычей и главным товаром русов. «Восточные писатели
X века в живой картине рисуют нам русского купца, торгующего челядью на Волге,
- писал В. О. Ключевский, - выгрузившись, он расставлял на волжских базарах, в
городах Болгаре и Итиле свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь. С этим же товаром являлся он
и в Константинополь…»[24]
В роли работорговцев выступали, в первую
очередь, князья и их дружинники[25].
Летопись сохранила упоминание о трех селах Владимира, в которых содержалось
восемьсот наложниц князя[26];
по-видимому, в данном случае речь идет не сколько о наложницах, сколько о
запасах предназначенного для продажи «живого товара»[27].
В те времена рабыня стоила 5 «гривен кун»[28];
«кунами» и «ногатами» тогда называли арабские дирхемы или заменявшие их
«меховые деньги», шкурки куниц[29].
Мусульманские купцы в Булгаре и Итиле платили за рабынь и меха дирхемами, и
дирхемы были самой распространенной монетой, как на Руси, так и в Скандинавии.
20 дирхемов-ногат составляли «гривну кун»[30];
таким образом, рабыня в Киеве стоила 100 дирхемов, в то время как в Багдаде
«красивая белая рабыня, совершенно ничему не обученная», стоила 15 тысяч
дирхемов[31].
Эти цифры помогают понять суть
русско-варяжской торговли: она приносила такие прибыли и имела такой размах,
что Скандинавия и Русь были заполнены
арабской монетой, от этого времени осталось более полутора тысяч кладов, причем
лишь один клад, найденный в районе Мурома, содержал 42 килограмма серебра[32].
В Константинополе платили за рабов
шелками, «паволоками», по две паволоки за челядина[33];
одна паволока стоила от 10 до 50 номисм. В переводе на арабские деньги раб
стоил 320-1600 дирхемов; рабыни (судя по величине таможенных пошлин) стоили в 4
раза дороже[34]. Объем
торговли был столь велик, что русь не только одевалась в шелка, но и
занавешивала шелками стены киевской крепости. По некоторым оценкам, количество
рабов, ежегодно продаваемых в арабские страны и в Византию, исчислялось
десятками тысяч, не случайно слово «славянин»
приобрело в европейских языках значение «раб»[35]
.
Княжеские дружинники также участвовали в работорговле:
во время походов они получали свою долю добычи, в том числе и рабов. Кроме
того, дружинники получали содержание от князя – порядка двухсот «гривен кун»,
то есть 4 тысячи дирхемов в год[36].
Это были очень большие деньги: по данным «Русской Правды» в начале XI века вол
стоил одну гривну, а баран – ногату. Для
сравнения можно отметить, что варяжские гвардейцы в Византии получали 30
солидов, то есть 480 дирхемов в год; цены же в Византии были значительно выше,
чем на Руси[37]. Вплоть
до конца ХI века в дружине киевских князей преобладали варяги, и понятие
«боярин», «старший дружинник»,
отождествлялось на Руси с варягом[38].
Флотилии варягов по-прежнему приходили на Днепр в поисках добычи или по пути в
Константинополь[39]; многие
из воинов поступали дружинниками к киевским князьям, однако, если в Византии
варяги были просто наемниками, то на Руси дружинники были причастны к власти,
без совета с дружиной князь не предпринимал никакого важного дела. Дружинники
владели обширными усадьбами с множеством рабов; их хоронили по скандинавскому
обряду, вместе с наложницами[40].
Знатные бояре имели свои дружины из младших родовичей; варяг Симон, к примеру,
пришел на Русь с тремя тысячами родичей[41].
Симон и другие бояре получали в управление волости, с которых собирали дань для
князя; часть этой дани шла в пользу
бояр-наместников и их дружинников. В роли наместников выступали и
сыновья князей: Ярослав, управляя Новгородом, собирал три тысячи гривен дани,
из которых тысячу тратил на содержание своей дружины, а остальное отправлял в
Киев[42].
Варяги Рюрика прибыли в страну славян без
женщин и - также как в Нормандии - примерно через полтора столетия после
завоевания они ассимилировались и переняли местный язык. Такой же была участь
варягов-дружинников, пришедших позже; они женились на славянках; их дети были
наполовину славянами, а их внуки мало чем отличались от славян. Ославянившаяся
русь постепенно стала отличать себя от варягов; в княжеской дружине появились
воины-славяне. В договоре с Византией 912 года в роли «русских послов и гостей»
упомянуты лишь варяги: «Мы от рода рускаго, Карлы, Инегелдъ, Фарлоф, Веремуд,
Рулавъ, Гуды, Руальд, Карнъ, Фрелавъ, Руаръ, Актеву, Труанъ, Лидул, Фостъ,
Стемид, иже послани от Олга, великого князя русскаго…»[43] В договоре 945 года рядом с 52 варяжскими
именами появляются два славянских имени, Синько и Борич[44].
Русы, не входившие в состав дружины, были в основном купцами, занимавшимися
работорговлей и сбытом дани, полученной на «полюдьи»; среди них были свои
«бояре» - должно быть, потомки оставивших службу дружинников (дружинники не
были обязаны всю жизнь служить князю). Городские усадьбы русов были наполнены
челядью, приведенной из набегов, среди этих рабов были также ремесленники и
военные слуги[45]. Купцы
в те времена были одновременно и воинами, в городах существовало свое ополчение
– городские «сотни» и «тысячи»; характерно, что возглавлявший ополчение
«тысяцкий» одновременно был главным судьей в торговых спорах[46].
«Сторонним наблюдателям оба класса, княжеская дружина и городское купечество,
представлялись единым общественным слоем, который носил общее название руси, и, по замечанию восточных
писателей Х века, занимался исключительно войной и торговлей, не имел ни
деревень, ни пашен, т. е. не успел еще сделаться землевладельческим классом»[47].
Относительно взаимоотношений князей и
городского населения в IX-Х веках имеются лишь отрывочные сведения. Известно,
что горожане собирались на свои сходки, «вече»; рассказывающие о событиях на
Руси скандинавские саги называют эти сходки «тингами»[48].
В договорах с Византией князья-конунги выступают от имени городов, требуя дань
отдельно для Киева, Чернигова,
Переяславля, Ростова, Любеча[49].
Очевидно, что князья не были самодержавными владыками и им приходилось
считаться с городскими общинами[50].
По-видимому, положение было таким же, как в городах Скандинавии, например, в
Бирке, где конунги выступали в роли военных вождей, но важнейшие дела решались
на тинге «знатью», «купцами» и «народом»[51].
Жителей славянских деревень называли
смердами; уплачивая русам требуемую дань, смерды жили по своим старым обычаям[52].
Власти не вмешивались в жизнь общин: «Русская Правда» говорит, что в случае
совершения убийства община-«вервь» сама должна искать преступника или платить
виру[53].
По «Русской Правде», убийство смерда каралось так же как и убийство раба,
штрафом в 5 гривен; для сравнения, вира руса составляла 40 гривен, а вира княжеского дружинника или
даньщика – 80 гривен[54].
80 гривен – это был был размер дани с целой волости; таким образом, в случае
убийства даньщика вервь должна была выплатить огромную контрибуцию[55].
Презрение, которое питали русы к смердам, нашло свое выражение в слове
«смердящий»[56]. Лишь в
редких случаях, находясь в тяжелом положении, князья призывали смердов в
войско; в летописи рассказывается, как в 1016 году князь Ярослав после похода
заплатил новгородцам (то есть русам) по 10 гривен, а смердам – по гривне[57].
Сословное деление древнерусского общества
нашло свое выражение в формуле, часто встречающейся в новгородских летописях:
«кто купець пойдеть в свое сто, а смерд пойдеть в свой погост»[58].
Таким образом, горожане традиционно отождествлялись с подразделявшимися на
сотни купцами-воинами, а смерды - с погостами, центрами деревенских общин и
одновременно центрами сбора дани.
Население русских городов быстро росло, и
рост населения заставил русь выводить колонии на периферию, князья «ставили»
для своих сыновей новые «города», переселяя туда часть дружины и «людей». Города руси постепенно осваивали
страну славян, подчиняя все более удаленные племена. В правление княгини Ольги
сбор дани принял более регулярный характер, полюдье постепенно заменялось
системой погостов; смерды сами привозили дань на погосты и передавали ее
княжеским уполномоченным. Для каждого погоста была утверждена определенная
сумма дани, в зависимости от числа «дымов»; таким образом, «дань» постепенно
превращалась в регулярный налог[59].
Как это обычно бывает, общество,
появившееся в результате завоевания,
было результатом социального
синтеза – в данном случае, синтеза норманнских и славянских традиций. Завоеватели-русы, в конечном счете, стали
военным сословием нового общества, а покоренные славяне – податным сословием[60].
Варяги не принесли на Русь ни высокой культуры, ни сколько-нибудь прочной
государственной организации – по той причине, что сами ее не имели. В русском
языке сохранился лишь десяток-другой скандинавских слов, но эти слова очень
характерны: «кнут», «броня», «шлем», «багор», «стяг», «удел», «город», «торг»,
«гость», «погост», «выть» (податная единица), «тиун» (судья), «вира», «гридь»
(младший дружинник); слово «конунг» превратилось в «князь», «викинг» – в
«витязь»[61].
Скандинавский бог грозы и войны Тор имеет много общего с русским Перуном, богом
дружины, которому приносили человеческие жертвы[62].
В культурном отношении варяжское наследие в основном ограничивалось военной
техникой: прямые «франкские» мечи, секиры, боевые ножи скрамасаксы[63].
Из военных традиций сохранился обычай совершать походы на ладьях-«дракарах» -
это было главное, что унаследовали русские от норманнов. Скандинавское
происхождение имеет также система «полюдья», известная в Норвегии как «вейцла»[64].
Обычай князей пировать с боярами и обсуждать дела в боярской думе восходит к
скандинавским дружинным традициям. Можно предположить, что русское городское
вече ведет свое начало от скандинавского тинга.
Крещение Руси при Владимире приобщило
молодое русское общество к христианскому миру и открыло дорогу мощному
византийскому культурному влиянию. Этот процесс знаменовал распространение на
Россию римского культурного круга –
того круга, который когда-то был порожден победами легионов. Теперь время побед
отошло в прошлое, и Византия «завоевала» Русь благодаря своему культурному
превосходству. Как всегда, модернизация по византийскому образцу сопровождалась
процессом социального синтеза –
синтеза греческих, славянских и норманнских традиций. Основным проводником
византийского влияния была русская церковь, непосредственно подчинявшаяся
константинопольскому патриарху; русские митрополиты и епископы, по большей
части, были греками, которых присылали из Константинополя[65].
Необходимо отметить, что христианская церковь со своего рождения несла в себе
социалистическую идею социальной справедливости. Естественно, что и на Руси
церковь по мере возможности старалась облегчить положение угнетенных, прежде
всего рабов. «Челядь же свою тако же милуй, - увещевали господ монахи, - дажь
им потребныя; показай же я на добро не яростию, но яко дети своя»[66].
Отцы церкви ставили князьям в пример благочестивых и радеющих о справедливости
византийских императоров. Князь Владимир в крещении принял имя Василия - по-видимому, в подражание могущественному
императору Василию II[67].
Летописцы рисуют русских князей по образцу и подобию императоров[68]:
благочестивые князья строят соборы, покровительствуют церкви, защищают вдов и сирот,
вершат справедливый суд. Не без влияния церкви создаются судебная и налоговая
системы – основные атрибуты государственности. «Повесть временных лет»
рассказывает, как епископы-греки побудили Владимира приступить к наведению
порядка, утвердить княжеский суд и «казнить разбойников»[69].
При Ярославе Мудром появляется первый русский законодательный кодекс, «Русская
правда»; характерно, что в сохранившихся списках она соседствует с переводными
византийскими судебниками и содержит следы как византийских, так и
скандинавских влияний[70].
«Русская правда» содержит также первое упоминание о сборе торговых пошлин,
«мыта» - свидетельство дальнейшего развития налоговой системы. Название этого
налога говорит о его заимствовании из Византии, возможно, через посредство варягов[71].
При Владимире появляется русская золотая и серебряная монета; она соответствует
по весу арабской монете, динару и дирхему[72].
Подражая Византии, русские князья вместе
с тем подражали византийскому самодержавию. Стремление к самодержавию
проявилось, в частности, в попытке Ярослава Мудрого подчинить церковь и
самостоятельно назначать митрополитов[73].
Несомненно, что авторитет князей намного возрос, и некоторые исследователи
говорят об уменьшении роли вечевых собраний[74].
Однако политика укрепления монархии была в принципе несовместима с семейными
традициями варягов: эти традиции требовали раздела между сыновьям владений
умершего отца. В конечном счете, Киевская Русь разделила судьбу империи Карла
Великого; «варварские» германские порядки одержали верх над влиянием Византии.
В соответствии с традицией Ярослав Мудрый выделил своим сыновьям уделы, и после
его смерти Русь распалась на почти независимые удельные княжества; начались
бесконечные смуты и войны князей.
До XI века развитие древнерусского общества
определялось по большей части влиянием внешних сил – набегающими с разных
сторон культурными кругами и процессами социального синтеза. В XI веке начинают проявлять свое действие
мощные внутренние факторы. Доминантой развития Киевской Руси стал быстрый рост
населения. По данным археологических раскопок в центральных районах Смоленской
области в IX-X веках насчитывалось 30 сельских поселений, в XI-XII веках их
число возросло втрое, до 89[75].
В земле вятичей (долина Оки) в VIII-X веках существовало 30 поселений, в X-середине
XII века – 83 поселения, а в период с середины XII по середину XIII – 135 поселений[76].
Специалисты отмечают, что к XII
веку значительные площади, покрытые прежде лесами, были превращены в поля. В XI-XII веках большой размах приобрела
славянская колонизация Северо-Востока. Междуречье Оки и Волги не подвергалось
набегам кочевников, и здесь имелись плодородные земли – своим плодородием
славилось в особенности владимирское ополье. Редкое население Северо-Востока
составляли финно-угорские племена, предки современных мордвы, удмуртов,
марийцев. Русские называли эти племена «чудью»; это были охотники и рыболовы,
которые не могли помешать продвижению в их края многочисленных славянских
земледельцев. Продвижение славян было мирным; смешанные браки славян и финнов
заметно отразились на антропологическом типе великороссов - но при этом в русский язык вошло очень
немного финских слов. Колонизация осуществлялась быстрыми темпами, если в XI
веке в московское земле археологами зафиксировано только 17 славянских селищ,
то в XII веке их число увеличилось до
129[77].
осуществлялась К XIII столетию наиболее удобные земли были уже плотно населены;
в районах Костромы, Углича деревни отстояли друг от друга на расстояние 3-5
километров[78]; на
Северо-Востоке появились крупные города – Суздаль, Ростов, Владимир.
Уже в IX-X веках рост населения и сведение
лесов вызвали постепенный переход от
подсечного земледелия к пашенному; коллективный труд на расчистке подсек
уступил место индивидуальному труду на семейных наделах; это, в свою очередь,
привело к распаду родовой общины. Большие родовые курганы сменились
индивидуальными захоронениями, на смену большим родовым деревням пришли группы
маленьких деревень и хуторов; община стала соседской, территориальной[79].
По мнению ряда исследователей, разложение общины уже в этот период привело к
становлению индивидуальной собственности на землю – во всяком случае, на
Северо-Западе Руси[80].
В XI-XII веках рост населения
сопровождался дальнейшим разложением общины; в общине растет неравенство, с одной
стороны, появляются мелкие вотчинники[81],
с другой стороны - вынужденные покинуть свои общины «изгои»[82].
Отсутствие письменных источников, к сожалению, не позволяет судить о причинах
этого процесса; можно только предположить, что он был вызван нарастающим малоземельем,
а так же войнами и тяжестью дани. О разорении крестьян говорит распространение
ростовщичества; многие бедняки становятся «закупами» и обрабатывают в счет
долга земли крупных собственников[83].
Появляется крупное землевладение; бояре становятся владельцами вотчин, земли
которых обрабатывают рабы, «закупы» и смерды
- по-видимому, из числа разорившихся общинников. Дружинники садят на
землю часть рабов, которых прежде предназначали для продажи; уже в конце XI века
многие из них имели свои укрепленные усадьбы-замки и села, населенные рабами и
зависимыми крестьянами[84].
«Во второй половине XI - начале ХII веков смоленские правители “дарят”
земельные владения своим “лучшим мужам”, - пишет В. В. Седов, - которые
поселяются там в собственных замках, постепенно расширяя свои владения за счет
земель свободных общинников… Но было немало случаев, когда более или менее
крупными землевладельцами становились бывшие общинники”[85].
Особое место занимает княжеское землевладение; населенные рабами княжеские села
упоминаются уже в X веке, в XII веке
встречаются описание княжеских имений с многими сотнями рабов и зависимых
смердов[86].
Однако в целом, крупных земельных владений было еще не много, основную часть
населения составляли свободные общинники[87].
Как отмечалась выше, после принятия
христианства образцом, которому
подражало русское общество, была Византийская империя. Для периода
расцвета Византии были характерны самодержавие, централизация и отсутствие
условных пожалований (при существовании крупной земельной собственности).
Период расцвета закончился катастрофой, которая постигла империю в 1071 году в
битве при Манцикерте. Гражданская война привела к ослаблению самодержавия и
централизации; церкви, а затем и знатным лицам стали предоставляться права на
сбор налогов с деревень и районов – так
называемая «прония»[88].
Естественно, что греческое духовенство на Руси способствовало распространению
этих порядков и в русской епархии[89].
В XII веке отмечаются случаи передачи князем церкви даней и вир с деревень.
Однако в период до монгольского нашествия эта практика еще не получила широкого
распространения; от этого периода не сохранилось грамот о предоставлении
подобных прав боярам или другим частным лицам[90].
Рост численности населения сопровождался
быстрым ростом городов: в начале XI века на Руси насчитывалось 20-25 поселений
городского типа, в середине XII века их было уже около 70, а к 1230-м годам –
около 150. Увеличивалось не только число городов, но и их размеры; с 1150-е по
1230-е годы защищенная валами территория возросла в
Полоцке с 28 до 58 га, в Смоленске с 10 до 100 га, в Чернигове с 55 до 160 га,
в Киеве с 80 до 300 га[91].
Владимир, новая столица Северо-Восточной Руси, имел площадь в 100 га. Растут
размеры каменного строительства, за четверть века, в 1188-1212 годах, на Руси
было построено 55 каменных храмов, этот рекорд каменного строительства был
превзойден только два века спустя. Успенский собор во Владимире превзошел
своими размерами знаменитый киевский храм Святой Софии, его высота достигала 32
метров[92].
Однако, Владимир, конечно, не мог соперничать с Киевом, по оценкам
исследователей, население Киева составляло 40-50 тысяч человек,[93]
по численности населения Киев не уступал крупнейшим городам Западной Европы[94].
По свидетельству Титмара Мерзебургского, уже в XI веке в Киеве насчитывалось
400 церквей и 8 рынков; Адам Бременский называл Киев соперником
Константинополя, «блестящим украшением Греции»[95]
– к тому времени Русь настолько пропиталась греческой культурой, что европейцы
иной раз называли ее «Грецией».
К середине
XI века Русская земля была уже не та,
что двести лет назад, в эпоху варяжского завоевания. Русы окончательно
ославянились, и этнические различия превратились в социальные и сословные.
Многие потомки варягов обеднели, младшим сыновьям младших братьев не находилось
места в дружине; они становились мелкими торговцами или ремесленниками,
постепенно смешиваясь с притекавшим в города деревенским населением. Основную
часть населения городов теперь составляли ремесленники, которых князья
презрительно называли «смердами» или
«плотниками»[96]. В
отличие от купцов или «княжьих мужей» простые люди часто не имели оружия, в их
могилы клали не боевые топоры, а ножи[97].
Ремесленники селились группами по сходству профессий и занимали целые районы
города, к примеру, Гончарский конец или Шитная улица в Новгороде, квартал
Кожемяки в Киеве[98].
Раскопки кожевенных мастерских в Новгороде наглядно показывают, как вместе с
ростом города росло ремесленное производство: в слоях с середины XI до конца
XII века количество находок кожаной обуви возрастает в 5 раз[99].
Наряду с ремеслом, важную роль в жизни
городов продолжала играть торговля – в особенности работорговля. В конце X века
произошло значительное перемещение торговых путей; в 960-х годах варяги
разгромили Булгар и Итиль, Хазарский каганат был уничтожен, вслед за этим
кочевники-тюрки перекрыли торговые пути на Восток. О прекращении торговли с
мусульманскими странами свидетельствует резкое уменьшение поступления в Европу
арабских дирхемов; в XI
веке дирхемы, бывшие основной монетой на Руси, исчезли из обращения; их
заменили слитки серебра и «меховые деньги»[100].
Прорыв тюрок-половцев в Причерноморье стал серьезным препятствием для торговли
с Византией; киевским князьям приходилось чуть ли не каждый год спускаться с
дружиной по Днепру, чтобы проводить и встретить купцов-«гречников»; в середине XII века князь Мстислав Изяславович говорил
о том, что половцы «пути отнимают»[101]. Впрочем,
сами князья, по-видимому, уже не участвовали в этой торговле: в XI-XII веках дань собиралась не мехами, как прежде, а серебром[102],
походы на Царьград прекратились, и князья уже не заключали торговых договоров с
Византией. Сократились и объемы работорговли;
после принятия христианства начались затруднения с продажей рабов в
Константинополе – там неохотно покупали людей своей веры, православных[103].
С середины XI
века городские бояре, следуя примеру князей, стали переходить от работорговли к
созданию рабовладельческих хозяйств; вокруг городов появились многочисленные
села, населенные рабами. Источником рабов для этих хозяйств были войны между
княжествами, в ходе которых городские ополчения захватывали большие полоны. Под
1149 годом летопись говорит о взятии князем Изяславом Мстиславовичем 7 тысяч
пленных, а в 1160 году Изяслав Давыдович, воюя в Смоленской области взял 10 тысяч пленных. Во время войны с
Новгородом, в 1169 году, суздальцы «села вся взяша и пожгоша и люди по селам
исекоша, а жены и дети, именья и скот поймаша»[104]. После поражения суздальцев, их, в свою
очередь, продавали в Новгороде по 2 ногаты за человека – то есть дешевле овцы[105].
Давняя традиции рабовладения подчеркивала
ту грань, которая разделяла города и сельское население, отделяла «мужей» от
«смердов». Города оставались наследниками крепостей, некогда построенных
завоевателями-«русами»; их население, ославянившиеся потомки «русов», не
платило налогов, той «дани», которая составляла удел смердов. На городское
вече допускались лишь жители городов, смердам там не было места. С точки зрения
горожан смерды – это были бесправные данники, а при случае – военная добыча[106].
Характерно, что русское слово «гражданин» происходит от слова «горожанин»[107]
- крестьяне не имели гражданских прав.
Как известно, в Европе рост городов в
условиях ослабления центральной власти привел к появлению самоуправляемых
городов, коммун. Подобный процесс имел место и на Руси[108].
В 1068 году трое русских князей, сыновей Ярослава Мудрого, потерпели жестокое
поражение от половцев на реке Альте. При вести об этом разгроме собравшиеся на
вече киевское простонародье потребовало у князя оружие, чтобы защищать город;
князь Изяслав отказал - тогда киевляне изгнали князя и поставили на княжение
Всеслава Полоцкого. Благодаря польской помощи Изяславу удалось вернуть свой
престол, но с этого времени простой народ почувствовал свою силу. Активность народных
масс стимулировалась слабостью князей и обстановкой постоянных половецких
набегов. «И быти рати много от Половець, к сим же и усобице, и бы в та времена
глад крепок и скудота велия в Руськой земли во всем»[109].
В 1092 году засуха и половецкое разорение привели к голоду и мору; в Киеве
погибло по меньшей мере 7 тысяч человек[110].
На следующий год киевские ополченцы устроили вече во время похода и заставили
князя Святополка дать битву половцам – но битва закончилась тяжким поражением.
Время правление Светополка было тяжелым временем для Киева, разорение горожан
привело к росту долговой задолженности и ростовщичества, неоплатных должников
обращали в рабство. Лишь в конце правления Святополка князья сумели заключить
союз, и всеобщее ополчение во главе с храбрым переяславльским князем Владимиром
Мономахом разбило половцев. После смерти
Святополка в 1113 году в Киеве произошло большое восстание, восставшие
разгромили дворы киевских ростовщиков и собравшись на вече, пригласили на
княжение Мономаха. На этот раз избранный
народом вопреки праву наследования князь удержал за собой престол. Мономах
исполнил пожелания народа, отменил часть долгов, ограничил ростовщический
процент и облегчил положение закупов, разрешив им жаловаться на хозяев в
княжеский суд. Победы Владимира Мономаха над кочевниками остановили половецкое
разорение и вернули мир и благополучие Южной Руси. И. Я. Фроянов, вслед за М.
Н. Покровским, сравнивает реформы Мономаха с реформами Солона, отмечая, однако,
их меньший радикализм[111]
– очевидно, социальные противоречия в Киеве еще не достигли такой степени
остроты, как в Афинах. Тем не менее, правление Мономаха было тем рубежом в
истории Киева, после которого некоторые исследователи считают возможным
называть Киев городом-государством, полисом или коммуной[112].
«После смерти Владимира Мономаха в Киеве установился порядок, при котором
князья заключали «ряд» с горожанами, наподобие позднейших договоров Новгорода с
великими князьями, - отмечал М. Н. Тихомиров.- К этому времени относится
появление в Киеве тысяцких, выбранных не князем, а самими киевлянами, и
усиление вечевой деятельности»[113].
Однако борьба киевлян за вечевое самоуправление была прервана разгромом города
войсками коалиции князей в 1169 году; хотя через некоторое время Киев оправился
от потерь, летописи уже не упоминают о киевском вече[114].
Борьба за вечевое самоуправление велась
во многих городах Руси, и некоторым из городов удалось добиться успеха. В 1136
году вспыхнуло восстание в Новгороде, новгородцы отстранили от власти князя
Всеволода Мстиславовича и пригласили на правление Святослава Ольговича. После
этих событий власть князя в Новгороде постепенно ограничивается военным
предводительством, административное управление переходит к выборному посаднику
и тысяцкому. Сравнивая борьбу городов за самоуправление на Руси и коммунальные
революции в Европе, М. Н. Тихомиров прямо говорит о «коммунальном
устройстве» Новгорода[115].
В конечном счете, результат борьбы за
коммунальное самоуправление, как в Западной Европе, так и на Руси, зависел от
соотношения сил между растущими городами и князьями. Монархическая традиция на
Руси постоянно подпитывалась византийским влиянием, поэтому естественно, что
внутренние войны в Византии в 70-80-х годах XI века повлекли за собой падение авторитета
княжеской власти; это нашло свое отражение в княжеских усобицах и последующем
распаде Руси на удельные княжества. Восстановление могущества Византийской
империи при Мануиле Комнине, в свою очередь, сказалось в усилении монархических
традиций на Руси. Cуздальский
князь Андрей Боголюбский, по-видимому, подражал Мануилу Комнину; так же как
Мануил, он по-рыцарски сражался в первых рядах, и вооружение князя –
кавалерийское копье и латы – это было рыцарское вооружение, введенное в
византийской армии Мануилом[116]. Подобно Мануилу, Андрей Боголюбский пытался
править как «самовластец», он изгнал из Суздальской земли удельных князей, не
советовался с боярами и окружил себя «отроками» из младшей дружины. Отроки –
это были по большей части воины-рабы, пленные половцы[117];
в те времена тюркские воины-рабы («гулямы») составляли гвардию во всех
мусульманских странах.
Источники содержат сравнительно мало
данных об экономическом развитии в домонгольский период. Известно, что
смоленский князь Ростислав в 1130-х годах получал от своего княжества 3087
гривен дани серебром[118]
или примерно 300 тыс. дирхемов. Сумма дани всей Руси, должно быть, была на
порядок выше, и мы можем ориентировочно оценить ее в 3-4 млн. дирхемов при
населении 2-3 млн. человек[119].
Сравним эти цифры с Ираком времен Харуна ар-Рашида (789-806). Население Ирака в
это время соcтавляло примерно 2,5-3 млн. человек[120],
сбор налогов составлял 133 млн. дирхемов (!)[121],
при этом уровень цен в обеих странах был примерно одинаков[122].
Таким образом, доход халифа с Ирака более чем на порядок превосходил дань Руси.
Столь большую разницу нельзя объяснить развитием ремесла и торговли - основную
часть налогов в Ираке составлял «харадж», который платили крестьяне. Остается
единственное объяснение: уровень налогообложения на Руси был много меньше, чем
в Ираке. Действительно, «харадж» был тяжелым налогом, отнимавшим до половины
урожая. Что касается дани, то во времена
Олега она была легкой: один «шляг» (то есть дирхем) с «дыма»[123];
в Ираке же подушная подать (собиравшаяся помимо хараджа) составляла 1 динар, то
есть была в 20 раз больше. Конечно, князья могли со временем увеличить дань, но
это было не таким простым делом – вспомним восстание древлян. Ольга в свое
время зафиксировала дань для каждой общины, и мы знаем, что на Смоленщине она
не увеличивалась по крайней мере, в течение полувека, предшествовавшего
правлению Ростислава[124].
Русские князья не имели такого мощного налогового аппарата, как халифы, и не
могли увеличивать дань сответстственно росту населения и посевных площадей. В
итоге налоговая нагрузка постепенно снижалась, и мы видим, что налоги на Руси
были намного меньше, чем в мусульманских странах. Характерно, что и в
последующий период, в XV
веке, подати черносошных крестьян (прежних смердов) были в пять раз меньше, чем
подати и повинности крестьян в вотчинах[125].
Как отмечалось выше, в «Русской Правде»,
помещенной в новгородской летописи под 1016 годом, указаны некоторые цены,
например, цена лошади – 1,2 гривны, вола – 1 гривна, коровы – 0,8 гривны,
барана – 1 ногата (1/20 гривны)[126].
Об уровне заработной платы в Киеве говорит то обстоятельство, что Ярослав
Мудрый нашел работников для строительства Святой Софии, лишь предложив платить
по ногате в день. На одну ногату тогда
можно было купить барана – так или иначе, это была щедрая плата; уровень жизни
в Киеве был очень высоким.
Цены первой половины XII века приводятся в
Карамзинском списке «Русской правды», в это время лошадь стоит 3 гривны, корова – 2 гривны,
овца – 6 ногат, баран – 10 резан (резана – 1/50 гривны)[127].
В среднем цены возросли в 3 раза, причем этот рост не мог быть следствием
падения стоимости серебра: как отмечалось выше, приток арабского серебра
прекращается в конце X века, и в XI веке отмечается острая нехватка монеты.
Карамзинский список содержит и указание на уровень заработной платы:
«жинка»-батрачка зарабатывала за лето одну гривну[128].
Исходя из сложившихся соотношений между платой за лето и поденной платой, о
также между оплатой труда мужчин и женщин, можно заключить, что поденная плата
батрака-мужчины равнялась ½
ногаты[129].
Считается, что данные Карамзинского списка относятся к Новгородчине[130],
и, таким образом, приходится сделать вывод, что в первой половине XII века уровень реальной заработной платы в
Новгородской земле был в несколько раз ниже, чем за столетие назад в Киеве.
Здесь необходимо отметить
существование значительных порайонных различий в уровне жизни и динамике
экономического развития. Одна из берестяных грамот начала XII века содержит
письмо новгородца, отправленное из Смоленска. Сын пишет родителям, предлагая
приехать к нему в Смоленск, или прямо в Киев, куда он держит путь и где «дешев
хлеб»[131].
Киевщина была изобильным краем, и киевские летописи после правления Святополка
ни разу не говорят о голоде или
дороговизне[132].
Между тем, в Новгороде первый голод отмечаются уже в 1128 году: кадь ржи стоила
8 гривен, люди ели кору и листья, на
улицах лежали трупы. Однако затем голод не упоминается до конца столетия;
летописец сообщает лишь о годах хлебной дороговизны: в 1170 году из-за войны
прекратился подвоз хлеба из Суздальщины и кадь ржи стоила 4 гривны; чтобы
закончить эту войну, новгородцы заменили своего князя на суздальского
ставленника[133]. В
1188 году кадь стоила 6 гривен, то есть в пять раз больше, чем в 1137 году; при
этом летопись не говорит о неурожае; летописец лишь радуется, что дороговизна
не вызвала волнений[134].
Имеются сведения и о росте цен на другие товары: относящаяся к этому периоду
берестяная грамота говорит о покупке коровы за 3 (или даже за 8) гривен[135].
Рост цен был вызван ростом населения Новгорода; в середине XII-начале
XIII века город увеличивается в размерах, рядом со старыми кварталами
появляется «окольный город», который опоясывают новые городские стены. Площадь внутри этих стен
составляет 200 гектар и специалисты оценивают население Новгорода в
30-35 тысяч человек[136].
В то же время на селе сложилась иная ситуация: по имеющимся данным население
долины Ловати не только не возросло, но даже уменьшилось[137].
Это обстоятельство, по-видимому, объясняется «выпахиванием» земли при
примитивном пашенном земледелия; вековые леса были в основном сведены,
подсечное земледелие стало невозможным, а урожай на пашне не превосходил сам-4
– в несколько раз меньше, чем на подсеке или на перелоге[138].
Урожаи падали, и постепенно нарастала нехватка продовольствия; купцы привозили
зерно в Новгород из Смоленска, Полоцка, Суздаля и даже «из-за моря»[139].
К этому времени относится обострение социальной розни: в 1207 году новгородцы
поднялись на посадника Дмитра и близких к нему бояр, разграбили их дворы,
отняли и распродали села и челядь, а деньги поделили, так что досталось по 3
гривны «всему городу»[140].
В 1215 году неурожай и прекражение подвоза хлеба с Суздальщины привели к
большому голоду: кадь ржи продавалась по 10 гривен, люди ели сосновую кору и
мох, трупы лежали на улицах, население бежало из города[141].
С этого времени голодные годы повторяются с устрашающей регулярностью. Под 1224
годом Псковская летопись говорит о «великом гладе»[142].
В 1228 году зерно вздорожало до 3 гривен за кадь; все лето шли дожди;
архиепископ Арсений пытался остановить беду «ночным бдением и молитвами», но не
смог – тогда новгородцы свели его с «владычена двора». Затем гнев вече
обратился на тысяцкого, его родню и причастных к власти бояр; их дворы были
разграблены голодающим простонародьем; князь Ярослав Всеволодович уехал из
города, а на княжение пригласили князя Михаила из Чернигова. Михаил
Черниговский призвал смердов, бежавших от голода, вернуться в свои погосты и
обещал им освобождение от дани на пять лет[143].
Однако голод 1228-1229 годов был лишь предвестником катастрофы, наступившей в
1230 году. «Изби мразъ на Въздвижение
честьнаго хреста обилье по волости нашей, - повествует летописец, - и оттоль
горе уставися велико: почахомъ купити хлъбъ по 8 кунъ, а ржи кадь по 20
гривенъ… И разидеся градъ нашь и волость наша, и полни быша чюжии гради и
страны братье нашей и сестръ, а останъкъ почаша мерети. И кто не просльзиться о
семь, видяще мьртвьця по уличамъ лежаща, и младънця от пьсъ изедаемы»[144].
Отцы и матери отдавали детей за хлеб; люди ели трупы и падаль, началось
людоедство, на улицах нападали на прохожих. Вспыхнули голодные бунты, князь с
посадником бежали в Торжок, дворы посадника и многих бояр были разграблены, а
их богатства поделили между голодающими. Вместе с голодом пришел страшный мор.
Архиепископ поставил скудельницу, и вскоре в нее собрали 3300 трупов, пришлось
поставить вторую скудельницу, куда положили 3500 тел, затем поставили третью[145].
По летописи церкви Двенадцати апостолов в одной из братских могил было
погребено 33 тысячи трупов, а «всего в Новгороде померло народу» 48 тысяч
человек[146] –
вероятно, не только новгородцев, но и голодающих, пришедших из деревень. Голод
охватил и Смоленщину, в Смоленске умерло по меньшей мере 32 тысячи человек[147].
Бедствия 1230 года пощадили лишь изобильную Киевщину.
Как оценить масштабы этой катастрофы?
Если в Новгороде проживало 30-35 тысяч, а в трех скудельницах было захоронено
10 тысяч умерших, то погибла примерно треть населения (однако летопись
Десятинной церкви говорит, что жертв было больше). После катастрофы в Новгороде наступило время упадка, число
берестяных грамот, найденных в раскопах сокращается вдвое, число находок обуви
– на треть[148].
Намного, иногда более чем вдвое, сокращается количество других находок -
пряслиц, стекляных бус, браслетов, янтаря, металлических изделий. Гибель
ремесленников привела к утрате некоторых ремесленных традиций, в Новгороде
полвека не строилось каменных зданий[149].
На Смоленщине сокращается число обнаруженных археологами сельских поселений: в
XI-XIII веках их было 89, в XIV –XV
веках – 52, причем размеры поселений уменьшились[150].
Ни Смоленщина, ни Новгородчина не были затронуты монгольским нашествием, и эти
цифры являются свидетельствами катастрофы другого рода – демографической катастрофы, которая произошла до нашествия.
Юг
и северо-восток Руси избежали демографической катастрофы – но именно на эти
области пришелся страшный удар Орды. Монгольское нашествие было вызвано появлением нового оружия – сверхмощного монгольского лука, саадака. Новое фундаментальное открытие породило волну нашествий, гораздо
более страшную, чем нашествие норманнов. Из 74 русских городов 49 были разорены
монголами, 14 из них так и не поднялись из пепла, а 15 превратились в села.
Монгольское нашествие отличалось от других нашествий тем, что завоеватели
проводили целенаправленную и планомерную политику геноцида[151]. В Московской земле
погибло 2/3 всех селений, в земле вятичей - 9/10[152]. Папский посол Гильом
Рубрук писал, что «татары произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили
города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и
после долгой осады они заняли его и убили жителей города; отсюда, когда мы
ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей,
лежавшие в поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а
теперь он сведен почти ни на что: едва существуют там двести домов…»[153] В Киеве прежде было
около 50 тысяч жителей, после нашествия уцелело 200 домов и, может быть, тысяча
обитателей. Киевское летописание прервалось, в Южной Руси начались «темные
века», история оказалась отброшенной на триста или четыреста лет назад.
***
Переходя к анализу
социально-экономической истории Киевской Руси, необходимо отметить, что эта
история начинается с норманнского завоевания и социального синтеза норманнских и славянских традиций. В таком
развитии событий нет ничего особенного, ничего, что вызывало бы удивление
историка - с завоевания начиналась история многих государств, например, Персии,
Спарты, Франции, Англии. Как это обычно бывает, в результате социального синтеза
завоеватели приняли язык местного населения и превратились в военное сословие
нового государства; они жили в городах-крепостях и собирали дань с местного
населению. Покоренные славянские общины жили по своим обычаям и платили дань
«русам», но часть славян была обращена рабов, которых русы продавали в Византию
и в мусульманские страны. Норманны захватывали людей и продавали их в рабство
во многих странах, но лишь на Восточноевропейской равнине им удалось навязать
свое господство многочисленному народу и создать столь нетипичное для Европы
работорговое государство. Это обстоятельство было связано с тем, что из земли
славян открывался путь в мусульманские страны, где существовал огромный спрос
на рабов. Как это не удивительно, в те
времена уже существовал «мировой рынок», диктовавший свою волю народам и
государствам. Огромные деньги, которые платили мусульманские купцы за рабов (и
в особенности за рабынь), побуждали правителей окрестных государств вести
войны-охоты, захватывать многие тысячи рабов и продавать их мусульманам[154].
На границах мусульманского мира сложился пояс работорговых государств: Гана, Канем, Нубия в Африке; на востоке
держава Махмуда Газневи поставляла множество рабов из Индии, а на севере эту роль играла Киевская Русь. Это
положение продолжало существовать до тех пор, пока кочевники, половцы и огузы,
не перекрыли дороги в мусульманский мир; после этого начался новый этап
развития Русского государства.
Дальнейшее развитие Руси было связано с
принятием христианства и модернизацией
по византийскому образцу. Модернизация – суть перенимание порядков и
культуры могущественных соседей - есть
одно из самых распространенных явлений в истории. В данном случае модернизация
принесла на Русь православную греческую культуру и элементы монархической
традиции. Русские князья подражали византийским императорам и время правления
Василия II
и Мануила Комнина было вместе с тем временем самодержавных попыток русских
князей. Однако в целом модернизация лишь
в малой степени повлияла на социально-политическую систему Киевской Руси; Русь
подчинялась норманно-германским традициям; в соответствии с этими традициями
князья делили свое государство между сыновьями, что неминуемо вело к
междоусобным войнам – как в варварской Европе. Так же как в Европе междоусобные
войны и слабость княжеской власти привели к появлению самоуправляемых
городов-коммун; при этом города по-прежнему
господствовали над сельским населением; сельчане-смерды по-прежнему
платили дань жившим в городах потомкам завоевателей.
Полное или частичное закрытие торговых
путей в XI-XII веках привело к сокращению работорговли;
бояре стали садить своих рабов на землю, вокруг городов появились
рабовладельческие хозяйства. В это же время
наблюдается быстрый рост населения, который приводит к разложению
сельских общин, появляются «изгои» и «закупы», распространяется ростовщичество.
Основной проблемой истории Киевской Руси является отсутствие источников,
которые освящали бы положение в сельских общинах. Однако недавние
археологические исследования позволяют утверждать, что развитие южных и
северных областей Руси шло по-разному, что в то время как на Юге не было
недостатка в земле, на Новгородчине в XII-XIII
веках ресурсы развития сельского хозяйства были уже исчерпаны. Таким образом, в
северных областях мы наблюдаем ситуацию, характерную для классического
демографического цикла.
Первая
фаза демографического цикла, период внутренней колонизации
характеризуется такими признаками, как относительно высокий уровень потребления
основной массы населения, рост населения, рост посевных площадей, строительство
новых поселений, низкие цены на хлеб,
низкие цены на землю, дороговизна рабочей силы, незначительное развитие
помещичьего землевладения, аренды и ростовщичества, ограниченное развитие городов и ремесел.
Эти признаки характерны для Юга Руси в течение всего домонгольского периода, но
на Новгородчине – только до середины XII века. После середины XII века на севере Руси начинается Сжатие,
мы наблюдаем приостановку роста населения, частые сообщения о голоде и стихийных бедствиях, разорение крестьян-собственников, рост помещичьего землевладения, рост ростовщичества, распространение долгового рабства, уход разоренных крестьян в города, рост городов, бурное развитие ремесел и торговли, высокие цены на хлеб, голодные бунты
и восстания. Наконец, в 1207-1230 годах в Новгородская земле наблюдаютс
характерные признаки экосоциального кризиса: голод, эпидемии, восстания, гибель больших масс населения, принимающая характер демографической катастрофы, упадок ремесла и торговли, высокие цены
на хлеб, низкие цены на землю, гибель
значительного числа крупных собственников и
перераспределение собственности.
Наличие
этих характерных признаков позволяет утверждать, что
социально-экономическое развитие северных областей Руси протекало в рамках
классического демографического цикла. На Юге демографический цикл прошел лишь
первую фазу и был прерван монгольским нашествием.