ГЛАВА V. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ:
ЭКОСОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС
5.4. Первая мировая война и февральская революция 1917 года
5.4.1.
Механизм брейкдауна в условиях войны
«Среди
историков существует мнение, – отмечает Э. Хобсбаум, – о том, что Россия… могла бы продолжать
поступательное и эволюционное движение в сторону процветающего либерального общества,
если бы это движение не было прервано революцией, которой, в свою очередь, можно
было бы избежать, если бы не первая мировая война. Ни одна из возможных
перспектив развития не удивила бы современников больше, чем эта. Если и
существовало государство, в котором революция считалась не только желательной,
но и неизбежной, так это империя царей»[1].
Однако
вопрос о том, что было бы, если бы не было войны, в принципе не имеет право на
постановку – и не только по той причине, что история не имеет сослагательного
наклонения. До появления ядерного оружия войны между великими державами были
неотъемлемой частью исторического процесса. А. Н. Боханов подсчитал, что в XVI
веке русское государство воевало 43 года, в XVII веке – 48 лет, в XVIII веке –
56 лет, в XIX веке – 30 лет[2]. Конечно, не все эти войны были большими войнами с «великими
державами». Специфика ситуации второй половины XIX столетия заключалась в том,
что большая война почему-то запаздывала. Между окончанием Крымской и началом
Первой мировой войны прошло 58 лет, в то время как временные промежутки между
большими войнами с участием России в XVI-первой половине XIX века в среднем
составляли лишь 16 лет[3]. Последний мирный период был очень длинным потому, что русское
правительство сознавало неготовность страны и армии к большой войне и часто шло
на большие дипломатические уступки, как было, например, во время боснийского
кризиса 1908 года[4]. Однако, как указывает Э. Хобсбаум, в 1910-х годах неизбежность
войны воспринималась уже как неоспоримый факт[5]. «Продолжавшееся международное напряжение и напряжение от гонки
вооружений – все это создавало настроение, в котором война воспринималась почти
как облегчение... – отмечает Д. Джолл. – Предшествующий международный кризис,
рост вооружений и флота и настроение, которое они создавали, – все это позволяло определить, что эта конкретная война
не могла не разразиться в данный момент»[6].
Таким образом, война была неизбежной исторической
реальностью, и нам предстоит еще раз описать и проанализировать механизм
действия демографически-структурной теории в условиях войны. Большое значение
при этом имеет то обстоятельство, в какой фазе демографического цикла происходит
война. Как отмечалось ранее (пункты 1.1.1 и 1.1.3) в соответствии с концепцией
Дж. Голдстоуна война не может вызвать брейкдаун в периоды низкого
давления, но способствует брейкдауну в период Сжатия. В пункте 4.2.1,
анализируя механизм кризиса в период Крымской войны, мы отмечали, что он имел
три направления развития. Первая встававшая перед страной проблема заключалась
в нехватке вооружений, что вело к военным
поражениям и ослаблению авторитета власти. Вторая проблема заключалась в
том, что в обстановке Сжатия и перманентного финансового кризиса государство
могло финансировать войну лишь за счет эмиссии бумажных денег, что приводило к гиперинфляции, развалу рынка и в перспективе
– к нарушению снабжения городов. Третья – и главная – проблема заключалась
в том, что Сжатие, крестьянское малоземелье и народная нищета вызывали глубокий
социальный раскол общества, что в условиях налагаемых войной тягот было чревато восстаниями крестьян-ополченцев и
восстаниями в тылу.
Необходимо
подчеркнуть также, что, согласно теории,
понятие Сжатия заключает в себе не только малоземелье и низкий уровень
потребления, но и повышение уровня смертности – в том числе в результате войн.
Таким образом, война была еще одним фактором
Сжатия, намного увеличивавшим его интенсивность.
Интересно отметить, что П. Н. Дурново в цитированной
выше записке выделяет, причем во взаимосвязи, первую и третью проблему, но не
говорит о второй – видимо, потому что финансовые трудности во время
непродолжительной русско-японской войны были разрешены с помощью внешних займов
и не вызвали гиперинфляции.
В начале Первой мировой войны продовольственное
положение тоже было относительно благоприятным, и никто не предвидел будущих
трудностей[7].
Экспорт, прежде сводивший внутреннее потребление к полуголодному уровню, был
теперь запрещен; было запрещено и винокурение, таким образом, в стране должно
было оставаться количество зерна, более чем достаточное для снабжения армии и
тыла. В 1914 году урожай был средний, а в 1915 году – самый высокий за
последнее десятилетие. Как показывают расчеты, душевое потребление в тылу в
1914/15-1915/16 годах составляло 23-25 пудов – то есть было значительно
большим, чем потребление населения в предвоенное время (см. табл. 5.9).
|
|
1914/15 |
1915/16 |
1916/17 |
|
Посевная площадь (млн.
дес.) |
85,7 |
82,4 |
75,9 |
|
Высев (млн. пуд) |
728 |
700 |
645 |
|
Сбор(млн. пуд) |
4660 |
4800 |
3968 |
|
Чистый остаток(млн. пуд) |
3932 |
4100 |
3323 |
|
Потребление армии (млн.
пуд) |
317 |
598 |
486 |
|
Вывоз(млн. пуд) |
33 |
42 |
3 |
|
Винокурение(млн. пуд) |
22 |
10 |
10 |
|
Остаток(млн. пуд) |
3560 |
3449 |
2824 |
|
Население (млн.) |
162,0 |
141,4 |
143,6 |
|
Армия (млн.) |
6,5 |
11,6 |
14,7 |
|
Беженцы (млн.) |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Потребители в тылу (млн.) |
155,5 |
139,8 |
138,9 |
|
Душевое потребление в тылу
(пуд.) |
22,9 |
24,7 |
20,3 |
Табл. 5.9. Хлебный
баланс в 1914-1917 годах (без оккупированных территорий, Закавказья и Средней
Азии)[8].
К весне 1915 года в армию было мобилизовано 6,3 млн. человек, а к
весне 1917 года – 13,5 млн., что составляло 47% трудоспособного мужского
населения. Это привело к резкому изменению демографической ситуации в деревне,
на смену избытку рабочей силы пришел ее недостаток. В семи губерниях Черноземья (Орловской,
Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Черниговской) без работников-мужчин
осталось 33% хозяйств, во многих хозяйствах земля была засеяна лишь благодаря
старой традиции общинных «помочей». Не хватало работников и в помещичьих
хозяйствах. Арендная плата по семи губерниям упала с 41% урожая в 1912-1914
годах до 17% в 1915 году и 15% в 1916 году; резко возросла оплата батраков (в
Тамбовской губернии – на 60-70%). На юге, в Новороссии, не получавшие прежней
прибыли помещики стали сокращать запашку; в Херсонской губернии к 1916 году
владельческая запашка сократилась в 2,3 раза. Однако в целом по стране, если не
учитывать потерю оккупированных территорий, уменьшение посевных площадей было
незначительным (Центрально-Черноземном районе – на 4%)[9].
Как отмечают многие авторы, с чисто продовольственной
точки зрения положение крестьянства во время войны улучшилось[10], но в
плане уменьшения социальной напряженности это не имело существенного значения.
Отношение к правительству и к войне определялось негативной инерцией предшествующего
периода. «Село, и прежде антигосударственное по настроению, – отмечают В. А.
Дьячков и Л. Г. Протасов, – не видело нужды в активной поддержке
государственных военных усилий, ставя на первое место борьбу за землю и волю,
против помещиков, хуторян… против твердых цен, проваливая продовольственную
разверстку А. А. Риттиха, саботируя государственные повинности и налоги…
Внутренний конфликт, ненависть к “врагу внутреннему” были сильнее, подпитываясь
негативно осмысленным опытом прошлой жизни, пережитыми обидами, хроническим
социально-культурным недопотреблением»[11]. С
началом войны к накопленному за десятилетия социальному недовольству добавилась
боль расставания с родными и близкими; если прежде крестьянство страдало от
голода, то теперь «мужиков» посылали умирать на непонятной для них войне. Во
время мобилизации «плач мужчин, женщин, детей слышался в России повсеместно»[12].
В годы войны русская армия на 90% состояла из крестьян[13].
Исследователи крестьянского менталитета отмечают, что в основе отношения
крестьян к войне лежало традиционное фаталистическое восприятие ее как стихийного
бедствия, наподобие засухи и неурожая. Поэтому крестьяне и на этот раз в своей
массе подчинились судьбе: 96% мобилизованных явились на призывные пункты[14]. Но
на многих призывных пунктах неожиданно вспыхнули стихийные волнения, которые
пришлось усмирять силой, по неполным официальным данным при подавлении этих
бунтов было убито 216 призывников. Власти пытались объяснить эти волнения
несвоевременным введением «сухого закона», что не позволяло провожать
призывников «по обычаю». Однако Дж. Санборн приводит примеры, когда официальное
объяснение было заведомо ложным, и показывает, что в основе волнений лежало социальное
недовольство. Мобилизация сопровождалась огромным потоком жалоб на то, что
«богатые» уклоняются от призыва, что «за 100 рублей можно получить бронь»[15].
Генерал С. А. Добровольский, начальник мобилизационного отдела, писал об обилии
«всевозможных просьб… об освобождении, или, по крайней мере, об отсрочке
призыва в войска. Подобные просьбы поступали не из толпы народа, а от нашего
культурного общества и из среды буржуазии»[16].
Таким образом, фактор социального раскола проявился в
самом начале войны; при этом раскол
приобрел еще одно измерение: простонародье должно было идти на фронт умирать, в
то время как элита и ее служители могли отсиживаться в тылу. Социальный
раскол в значительной мере определил постепенно развивающееся противостояние
«фронт» – «тыл»; он обусловил ненависть и презрение фронтовиков к «тыловым
крысам», включая полицию, штабных офицеров, высшее командование и
правительство. После понесенных поражений крестьянская ненависть
кристаллизовалась в обвинение в предательстве, адресуемое высшим офицерам – то
есть по-преимуществу дворянам-помещикам, старым врагам крестьян. «Крестьянская
психология солдата указывала ему конкретного виновника его страданий –
предательство офицеров, особенно высших, и министров»[17].
Однако конфликт фронта и тыла был более широким, чем
традиционное противостояние народных низов и элиты, он втягивал в себя и
средние слои, людей, которые прежде не проявляли социального недовольства, а
теперь люто ненавидели тех, кто послал их умирать, а сам отсиживался в тылу.
Эта ненависть проявлялась, в частности, в отказах фронтовиков (в том числе
казаков и офицеров) оказывать помощь полиции в подавлении голодных бунтов (о
чем пойдет речь ниже). Как отмечал А. Уайлдман, внутренняя логика армейской
жизни в годы войны в большей степени вела к бунтарству, нежели любая пропаганда[18].
Многие наблюдатели отмечали, что мобилизованные крестьяне не
понимали, ради чего они должны идти на войну. Удивительно, но в первые три
месяца войны свыше половины писем с фронта вообще не содержали упоминаний о
военных действиях; они были наполнены заботами о семье и хозяйстве[19]. «У них не было никакого представления о том, ради чего они
воюют, – свидетельствует британский военный атташе А. Нокс, – не было у них и
сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем
тягчайших потерь…»[20]. «Крестьянин шел на призыв потому, что привык вообще исполнять
все, что от него требует власть, – писал генерал Ю. Н. Данилов, – он терпел, но
пассивно нес свой крест, пока не подошли великие испытания»[21]. Едва ли не единственной внутренней мотивацией крестьянского
участия в войне – но мотивацией неофициальной, исключительно на уровне бытового
сознания – были слухи о том, что после окончания войны солдаты-победители
получат землю. Эти слухи были аналогичны слухам 1812 и 1855 годов о том, что
крепостные-ополченцы получат свободу. Однако по мере затягивания войны ничем не
подкреплявшиеся надежды постепенно рассеивались[22].
Нежелание крестьян-солдат воевать сказывалось уже в начале войны.
Председатель Думы М. В. Родзянко приводил примеры, когда во время атаки с поля
боя дезертировало до половины солдат, подчеркивая, что это примеры «далеко не
единственные»[23]. К концу 1914 года в различных армиях было издано большое
количество приказов, отмечавших отсутствие стойкости у солдат и распространившиеся
сдачи в плен[24]. Русская армия уступала противнику в артиллерии, и русские
генералы старались использовать численное превосходство, безжалостно бросая
своих солдат в штыковые атаки. Осенью 1914 года на Восточном фронте 3 млн.
русских сражались с 1,5 млн. австрийцев и немцев, и к концу года русские потери
достигли 1,4 млн. Уже в начале 1915 года закончились мобилизационные запасы
снарядов и винтовок, на фронт прибывали невооруженные пополнения. Затем
началось немецкое наступление. В июле 1915 года в сражении на реке Нарев тысячи
солдат не имели винтовок, а для артиллерии была установлена норма в 5 выстрелов
на орудие в сутки. Немецкие же орудия были обеспечены 600-1000 выстрелами. В
день немецкого наступления артиллерийская подготовка продолжалась пять часов, и
за это время обороняющиеся потеряли 30% боевого состава[25]. Военный министр А. А. Поливанов говорил на заседании Совета
Министров 16 июля: «…Пользуясь огромным преобладанием артиллерии, немцы
заставляют нас отступать одним артиллерийским огнем. В то время как они
стреляют из орудий чуть ли не по одиночкам, наши батареи вынуждены молчать даже
во время серьезных столкновений. Благодаря этому, обладая возможностью не
пускать в дело пехотные массы, неприятель почти не несет потерь, тогда как у
нас люди гибнут тысячами…»[26].
Таким образом, механизм кризиса начал действовать:
недостаток вооружений привел к поражениям 1915 года и к резкому падению
авторитета власти. Дурново предсказывал, что, как и в 1904 году, поражения в
войне вызовут компанию обвинений в адрес правительства со стороны либеральной оппозиции
и требования поделиться властью – и действительно, поражения 1915 года вызвали
яростную антиправительственную компанию в Думе и формирование оппозиционного
«Прогрессивного блока» из прогрессистов, кадетов, октябристов и части
националистов. Однако на конференции кадетов в июле П. Н. Милюков снова
напомнил призывающим к революции о призраке Разина и Пугачева: «Это была бы не
революция, – говорил лидер кадетов, – это был бы ужасный русский бунт,
бессмысленный и беспощадный… Какова бы ни была власть – худа или хороша, но
сейчас твердая власть необходима более чем когда-либо»[27]. В
силу этих опасений программа блока была чрезвычайно скромной, она включала
амнистию политзаключенных, отмену национальных ограничений, расширение местного
самоуправления и тщательно обходила главные вопросы о земле и равном избирательном
праве. По существу, единственным лозунгом, объединяющим оппозицию, было
создание «министерства доверия» с участием думских лидеров. Р. Пайпс отмечает,
что Николая II приводили в ярость политики, игравшие свои игры, когда войска на
фронте истекали кровью. Решив проявить твердость, царь распорядился прервать
заседания Думы на несколько месяцев[28].
Наученная опытом 1905 года, оппозиция не обращалась за поддержкой к рабочим, и
роспуск Думы прошел относительно спокойно; таким образом, вопреки предсказанию
Дурново, антиправительственная кампания не вызвала массовых революционных
выступлений[29].
Разгромленные русские армии потеряли в летней кампании 1915 года
2,4 млн. солдат, в том числе 1 млн. пленными. Деморализованные и не понимающие
смысла войны солдаты массами сдавались в плен. Начальник штаба верховного
главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич писал военному министру: «Получаются
сведения, что в деревнях… уже отпускают новобранцев (призыв 15 мая) с советами:
не драться до крови, а сдаваться, чтобы живыми остаться»[30]. Янушкевич добавлял, что солдатам незнакомо само понятие
«патриотизм», что тамбовец – патриот лишь Тамбовской губернии, а на
общероссийские интересы ему наплевать. Поэтому – тут генерал затрагивал главный
вопрос – солдата «надо поманить», пообещать ему земельный надел в 10 десятин[31]. На заседании 30 июля А. А. Поливанов говорил, что
«деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры»[32]. Большие потери, массовые сдачи в плен и дезертирство привели к
тому, что осенью 1915 года на фронте осталось только 870 тыс. солдат – втрое
меньше, чем в начале войны. Ввиду столь тяжелого положения началась мобилизация
старших призывных возрастов, 30-40-летних мужчин, отцов семейств. В деревнях
при проводах мобилизованных происходили душераздирающие сцены: миллионы
похоронок открыли масштабы кровавой бойни и стало ясно, что у уходящих немного
шансов вернуться. Произошло 82 бунта, сопровождавшихся разгромами магазинов,
вокзалов и полицейских участков; мобилизованные требовали отправить воевать
отсиживавшихся в тылу полицейских. Призывники разбегались по пути на фронт; по
данным И. М. Пушкаревой количество бежавших из маршевых эшелонов достигало
сотен тысяч[33]. «Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на
фронт с утечкой в 25% в среднем, – свидетельствует М. В. Родзянко, – и, к
сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах,
останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона…»[34]
Характерным свидетельством отсутствия национального единства в
расколотой жестоким социальным конфликтом стране было голосование думских
фракций трудовиков и социал-демократов против военных кредитов осенью 1915
года. Л. Хеймсон отмечал, что среди политических партий воюющих стран русские
трудовики и социал-демократы представляли собой единственные парламентские
фракции, которые проголосовали против военных кредитов единогласно. «У рабочих
отсутствовало ощущение, что они принадлежат к единой нации», – писал Л. Хеймсон[35]. То же самое, очевидно, можно сказать и о крестьянах.
Правительство пыталось заставить солдат сражаться. Были созданы
специальные вооруженные команды для доставки мобилизованных на фронт. В армии
были введены телесные наказания и смертная казнь за саморанения. Солдат
предупреждали, что в случае сдачи в плен их семьи лишатся пайков, а сами они
после войны будут отправлены в Сибирь[36]. Приказ командующего восьмой армией А. А. Брусилова гласил:
«…Сзади нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится,
заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным
расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдаться в
плен»[37].
Осенью немецкое наступление остановилось; зимой благодаря
налаживанию производства внутри страны и помощи союзников удалось улучшить
снабжение армии винтовками и снарядами. Как показывают отчеты военных цензоров,
за время зимней передышки настроение солдат улучшилось, и это позволило летом
1916 года бросить армию в наступление. Однако неравенство в вооружении сохранялось:
русская армия потребляла 5 кг металла на каждого солдата в месяц, в то время
как германская – 102 кг., то есть в 20 раз больше[38]. Летняя кампания 1916 года превратилась в новую кровавую бойню, и
если верить данным Генерального штаба, то потери убитыми и ранеными были лишь
немногим меньшими, чем в 1915 году. Для характеристики морального состояния
солдат особенно показательны потери пленными: в 1916 году эти потери составили
1,5 млн. солдат – притом, что армия не отступала, как в 1915 году, а наступала[39]. О распространении добровольной сдачи в плен говорят многие историки,
опирающиеся на анализ фронтовой корреспонденции[40] (необходимо особо отметить фундаментальное исследование О. С.
Поршневой[41]). Эта тема широко представлена в письмах офицеров: «Представится
случай, охотно идут в плен, а тем более, что против нас австрийцы», «австрийцы
очень часто переходят к нам в плен, наши тоже не спят: как только начальство
заглядится, так и уходят» и т. д.[42] Характерно также одно из солдатских писем: «От чистого сердца
сознаюсь, что почти все солдаты стремятся попасть в плен, особенно в пехоте…
Почему наша Россия оказалась в таком плохом положении, а потому, что наше
правительство заглушило жизнь бедного крестьянина, которому не за что класть
свою голову…»[43]
Современными исследователями подсчитано, что в целом за время
войны Россия потеряла 3,9 млн. пленными, в 3 раза больше, чем Германия, Франция
и Англия вместе взятые. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных,
а в германской, английской и французской армиях – от 20 до 26, то есть русские
сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем солдаты других армий (кроме австрийской)[44].
Помимо сдачи в плен, массовый протест принимал и другие формы.
Резко возросло число дезертиров, по некоторым оценкам к началу 1917 года оно
составляло 1,5 млн.[45] Отмечались случаи отказа частей идти в наступление («забастовки
солдат»), братания с солдатами противника. В солдатских письмах все чаще
встречаются угрозы посчитаться с «пузанами, которые сидят в тылу»[46]. В последние месяцы 1916 года цензоры Казанского военного округа
отмечали в своих отчетах, что «такого уныния как теперь, в корреспонденции с
театра войны еще не было. 2,5 года войны, по-видимому, произвели свое действие,
озлобив всех. Нет доверия к власти, нет и веры в себя. А остается лишь место
для протеста, который может вылиться в нежелательные формы»[47]. В отчете за январь 1917 года был приведен отрывок из солдатского
письма, отражавший, по мнению военно-цензурной комиссии, типичное настроение
солдат: «Мы здесь на фронте проливаем кровь, терпим разные лишения и кладем
жизнь, а там на нашей крови… купцы-спекулянты строят свое благополучие и
счастье»[48].
Осенью 1916 года Петроградское жандармское управление
отметило факты начавшегося разложения армии: массовую сдачу солдат в плен,
дезертирство и вражду солдат к офицерам[49] –
характерное проявление обострения социальной розни. В октябре 1916 года
произошли восстания нескольких тысяч солдат на тыловых распределительных
пунктах в Гомеле и Кременчуге; возможность большого солдатского мятежа
становилась все более реальной[50].
Еще более опасным для властей было положение на флоте.
Генерал-губернатор Кронштадта Р. Вирен писал в Главный морской штаб в сентябре
1916 года: «Достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт вместе с
судами, находящимися сейчас в кронштадтском порту, выступит против меня,
офицерства, правительства, кого хотите. Крепость – форменный пороховой погреб,
в котором догорает фитиль – через минуту раздастся взрыв… Мы судим, уличенных
ссылаем, расстреливаем их, но это не достигает цели. 80 тысяч под суд не отдашь»[51].
Таким образом, к концу 1916 года два фактора кризиса, о
которых говорилась выше – падение авторитета власти в результате военных
поражений и ненадежность войск как следствие предшествовавшего войне Сжатия и
военных тягот – два фактора кризиса подготовили почву для революции.
5.4.2.
Продовольственный кризис в городах
Однако
существовал еще и третий фактор: гиперинфляция, развал рынка и голод в городах. Как
отмечалось выше, благодаря прекращению экспорта страна в целом была вполне
обеспечена продовольствием. Однако, помимо проблемы производства, существовала
еще проблема распределения продовольствия. В мирное время вопросы распределения
продовольствия решались через рынок, и государство не вмешивалось в рыночную
экономику, опасаясь нарушить интересы землевладельцев. Такой же политики
самоустранения оно придерживалось и в первый военный год, не придавая особого
значения проблеме распределения.
Между тем, в 1915 году система рыночного распределения стала
разрушаться в результате финансового кризиса и начавшейся быстрой инфляции. Как отмечалось выше, типичный механизм кризиса общества,
находящегося в состоянии Сжатия, в условиях войны включал гиперинфляцию и
развал рынка. Это
объяснялось тем, что Сжатие вызывало финансовый кризис, и в этих условиях
военные расходы могли финансироваться, в основном, лишь за счет эмиссии
бумажных денег. Огромные военные расходы не могли быть
профинансированы, исходя из обычного бюджета. В 1914 году доходы бюджета
составляли 2,8 млрд. руб., и поскольку увеличить доходы за счет налогов с
населения было практически невозможно, то в 1915 году доходы формально остались
на том же уровне (а с учетом инфляции существенно уменьшились). Между тем
военные расходы за вторую половину 1914 года составили 2,5 млрд. руб., за 1915
год – 9,4 млрд., за 1916 год – 15,3 млрд. [52] Военные расходы намного превосходили обычные доходы во всех
воюющих странах, но в России ситуация намного усугублялась условиями Сжатия.
Для стран с относительно высоким уровнем жизни, помимо повышения налогов и
эмиссии бумажных денег, существовал еще один путь получения доходов –
внутренние займы. Правительства этих стран могли опираться на поддержку народа,
который готов был кредитовать государство ради будущей победы – и главное, мог
кредитовать государство, потому что даже простые люди имели определенные
сбережения. В Германии доля займов в годы войны составляла 90% средств,
полученных на внутреннем рынке, и 74% военных расходов[53]. В России Сжатие обуславливало бедность населения, поэтому за
счет займов было погашено лишь 7,5 млрд. из 30,5 млрд. руб. военных расходов
царского правительства – то есть 25%[54].
Однако дело было не только в бедности: глубинной причиной
возникших финансовых трудностей было нежелание населения оказывать поддержку
властям, «отсутствие должного понимания населением гражданского долга»[55]. При этом необходимо отметить, что либеральная оппозиция агитировала
за займы, и имущие слои населения вкладывали в них свои деньги, – речь идет об
отсутствии поддержки правительства со стороны простого народа[56]. Это было следствие вызванного Сжатием социального раскола.
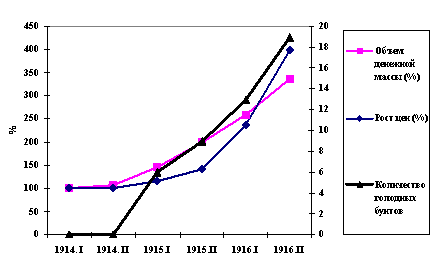
Рис. 5.3. Количество денег в обращении,
индекс цен, и число голодных бунтов в городах (без Сибири, Закавказья, Кавказа
и Донской области) по полугодиям[57].
Таким образом, выяснилось, что Россия была не в состоянии
самостоятельно финансировать войну, и союзники были вынуждены предоставить
русскому правительству займы на общую сумму в 6,3 млрд. руб., что составило 21%
военных расходов[58]. Однако, несмотря на эту помощь, внутренние и внешние займы
покрывали расходы менее чем наполовину, а обыкновенные доходы (несмотря на
формальное увеличение некоторых налогов) фактически даже уменьшились, и
оставалось единственное средство финансирования армии – печатание бумажных
денег. «Какие бы неточности в расчетах ни были, можно смело сказать, что выпуск
бумажных денег явился для казны самым главным источником финансирования войны»,
– констатирует А. Л. Сидоров[59]. В конечном счете, к денежным эмиссиям были вынуждены прибегать и
другие страны, но в России – ввиду отмеченных обстоятельств – эмиссия приобрела
безудержный характер. По подсчетам А. Гурьева к весне 1917 году количество
бумажных денег в обращении увеличилась во Франции на 100%, в Германии – на
200%, а в России – на 600%[60].
Эмиссия необеспеченных кредитных билетов должна была привести к
галопирующией инфляции, разрушению экономических связей и к потере
хозяйственной, а потом и административной управляемости. К ноябрю 1916 года
курс рубля упал до 60% номинала[61]. Естественным следствием такого положения был рост цен (см. рис.
5.3). В 1915 году цены росли значительно медленнее, чем денежная масса, в
первом полугодии 1916 года рост ускорился, а во втором полугодии цены сделали
резкий скачок и обогнали рост денежной массы. В соответствии с
общеэкономическими законами это означало, что сократилось количество
поступавших на рынок товаров, в том числе главного товара – хлеба. Во всем мире
и во все времена реакция производителей на инфляцию одинакова: наблюдая быстрый
рост цен, землевладельцы и крестьяне придерживают свой товар, чтобы подать его
с большей выгодой, когда цена возрастет. На рынке появляется дефицит хлеба, от
которого в первую очередь страдают горожане. Цены в городах быстро растут, у
булочных выстраиваются длинные «хвосты», и массовое недовольство приводит к
спонтанным вспышкам голодных бунтов, которые иногда превращаются в большие
восстания. Примеры такого развития событий хорошо известны в истории, и мы напомним лишь два из них.
Первый пример – это события Великой французской революции. В 1792
году, во время войны с Австрией и Пруссией, все лица, годные к военной службе,
были допущены в национальную гвардию – то есть народ получил в свои руки
оружие. Как и 1914-1917 годах, война финансировалась за счет эмиссии ассигнаций,
стоимость которых быстро падала. Уже в ноябре 1792 года Сен-Жюст говорил, что
«система торговли зерном опрокинута неумеренной эмиссией денежных знаков» и
предупреждал о грядущих восстаниях[62]. К февралю 1793 года стоимость ассигната упала до 50% номинала, и
24-26 февраля по Парижу прокатилась первая – чисто стихийная – волна голодных
бунтов. Напуганное правительство ввело максимальные цены на зерно, но максимум
не соблюдался. Воспользовавшись создавшимся положением, якобинцы сумели
превратить стихийное экономическое движение в политическое и объединили лозунги
твердой цены на хлеб, изгнания из Конвента жирондистских депутатов, ареста
подозрительных и др. Организованное якобинцами вооруженное выступление национальной
гвардии 31 мая -2 июня одержало победу, Робеспьер пришел к власти, но
продовольственное положение не улучшалось. 4 сентября вспыхнул новый – снова
стихийный – голодный бунт, и Конвент был вынужден объявить «всеобщий максимум»,
то есть максимальные цены на все товары. Затем последовало введение
продразверстки с конфискацией всех излишков по твердым ценам и частичная
национализация экономики; сопротивление недовольных было подавлено с помощью
«революционного террора»[63].
Аналогия в развитии событий в России и в революционной Франции
бросалась в глаза, и о ней начали говорить еще до начала русской революции. В
ноябре-декабре 1916 года на эту аналогию обращалось внимание в выступлениях на
заседаниях Всероссийской сельскохозяйственной палаты[64]. 25 января 1917 года министр финансов П. Барк, выступая на
Петроградской конференции Антанты, сообщал, что цены в России поднялись в 4-5
раз, намного больше, чем в других воюющих странах, что если курс рубля не будет
поддержан, то «возможна катастрофа, как во время
французской революции». Отвечая П. Барку, английский
представитель лорд Мильнер признал, что вопрос «курса есть самый трудный
вопрос, но, увы, англичане не волшебники»[65]. Таким образом, и русское, и английское (и французское)
правительства понимали, в каком направлении развиваются события в России, но ничего
не могли изменить.
Другой пример – это упоминавшийся выше московский «медный бунт»
1662 года. Он также произошел во время тяжелой войны, когда правительство, с
одной стороны, проводило большие мобилизации, а с другой стороны – финансировало
войну с помощью чеканки медных денег с номинальной стоимостью. В результате
цены в городах резко возросли и в Москве вспыхнул бунт, в котором участвовали,
в том числе, и солдаты полков «иноземного строя». Бунт был подавлен полками
стрельцов, которые сохранили верность правительству, но одно время положение
было очень опасным. Благополучный исход этого кризиса был обусловлен, в
основном, тем обстоятельством, что страна находилась в фазе демографического
восстановления, земли было много, уровень жизни был относительно высоким, и
общество не было расколото жестоким социальным конфликтом (крепостное право еще
не успело оказать своего негативного воздействия). В 1917 году ситуация была
иной.
Указанные примеры говорят о том, что события, подобные
февральской революции 1917 года, могут происходить и в традиционном обществе, и что участие промышленных рабочих в февральских событиях, в
конечном счете, не было определяющим моментом.
В России хлебное снабжение городов было нарушено уже к осени 1915
года. А. Н. Хвостов, вскоре назначенный министром внутренних дел, уже в октябре
этого года предупреждал о надвигающемся топливном и продовольственном кризисе в
центральных и северных районах[66]. По данным анкетирования, произведенного в сентябре 1915 года, в
Центрально-промышленном районе 88% городов испытывали недостаток в хлебе. Чтобы
обеспечить снабжение городов и закупки для армии большинство губернаторов
Европейской России запретили вывоз хлеба за пределы своих губерний, до крайности
затруднив хлебную торговлю. Это вынудило хлебных торговцев искать всевозможные
лазейки, давать взятки чиновникам и обходить запреты. Многие солидные фирмы,
оказавшиеся не в состоянии встать на этот путь, были вынуждены прекратить свою
деятельность, а те, которым удавалось провезти хлеб, продавали его по спекулятивным ценам[67].
Население городов отвечало
на нехватку хлеба и спекулятивные цены стихийными бунтами, сопровождавшимися
разгромом магазинов и торговых кварталов. На графике 5.3 учтены лишь крупные
бунты с тысячами участников, отмеченные массовыми беспорядками и столкновениями
с полицией и войсками. Число голодных бунтов росло одновременно с ростом цен.
Едва ли не большинство участников бунтов составляли женщины. Участие женщин и
справедливый характер требований доведенных до отчаяния людей вызывали
сочувствие среди привлекаемых для подавления волнений солдат и казаков. Во
время голодного бунта 2-3 мая 1916 года в Оренбурге казаки впервые отказались выполнять
приказ атаковать толпу. В дальнейшем такое поведение солдат и казаков стало достаточно
типичным: в 1916 году было 9 таких случаев[68].
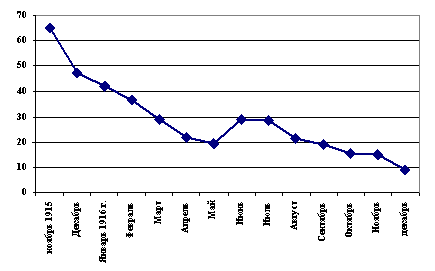
Рис. 5.4. Видимые
запасы «главных хлебов» (млн. пуд.)[69]
График на рис. 5.4 иллюстрирует постепенное ухудшение положения в
хлебной торговле и уменьшение запасов на элеваторах, железнодорожных, портовых,
торговых и других складах, где велся соответствующий учет. Запасы обычно
достигали максимума в осенние месяцы, когда на рынок поступал хлеб нового
урожая. В ноябре 1915 года запасы составили 65 млн. пудов, затем в ходе
обычного торгового цикла они постепенно уменьшались. Но – в отличие от
предыдущих лет – осенью 1916 году запасы не возросли. Урожай 1916 года был значительно хуже, чем в 1915 году,
и, наблюдая рост цен в предыдущий период, производители, как помещики, так и
крестьяне, не продавали хлеб. Инфляционные ожидания были таковы, что ходили
слухи о будущем десятикратном увеличении цен. В результате зерно не попало на
склады, оставшись в деревне, и запасы уменьшились до критического уровня[70].
В результате паралича торговли в промышленных губерниях,
питавшихся в значительной мере привозным хлебом, наблюдался резкий рост цен. На
картограмме, показывающей уровень осенних цен 1916 года (рис. 5.5) выделяется
область высоких цен, охватывающая Центрально-промышленный район и Северо-Запад.
Тяжелое положение сложилось также в Белоруссии. Минская губерния до войны
получала 4500 вагонов продовольствия, а в 1916 году – только 200 вагонов[71].
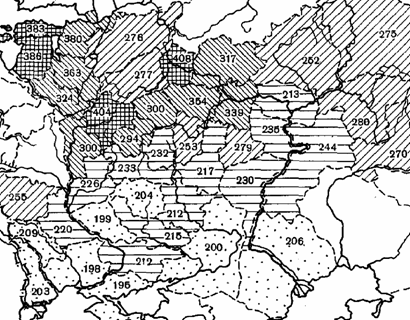
Рис5.5. Цены на рожь
осенью 1916 года (коп за пуд.)[72].
В течение всего лета 1916 года в правительстве шла борьба между
сторонниками государственного регулирования цен и приверженцами «laissez
faire». Еще в конце 1915 года бюджетный комитет Думы, выражая интересы
помещиков, протестовал против установления введенных тогда твердых цен на хлеб,
закупаемый для армии. В июле 1916 года более реалистически мысливший Госсовет
потребовал установления обязательных для всех максимальных цен на хлеб, которые
были введены с 9 сентября. Эти «твердые» цены были выше летних цен, но уже
вскоре они оказались ниже, чем поднявшиеся цены свободного рынка. Производители
отказывались продавать хлеб по твердым ценам, и они почти нигде не соблюдались,
даже при государственных закупках. 10 октября в Особом совещании по продовольственному
вопросу был выдвинут проект введения карточной системы, но он не был принят за
отсутствием «технических средств» к выполнению. Впрочем, к этому времени во
многих городах уже существовали свои карточки, но продажа продуктов по ним
осуществлялась в небольших размерах и была лишь дополнением к свободному рынку[73].
Между тем, положение быстро ухудшалось; в октябре было закуплено
49 млн. пуд., что составляло лишь 35% от запланированного количества хлеба, в
ноябре – 39 млн. пуд (38%). В ноябре командующий Юго-Западным фронтом А. А.
Брусилов предупредил правительство о надвигающемся голоде в войсках.
Правительство осознало, что сам по себе хлеб уже не придет на рынок и
необходимо принимать срочные меры. 29 ноября новый министр земледелия А. А.
Риттих подписал постановление о введении продразверстки. Для каждой губернии
устанавливался объем государственных закупок по твердым ценам, далее он
распределялся по уездам, волостям и в течение 35 дней должен был доведен до
производителей – помещиков и крестьян. В течение 6 месяцев разверстанное
количество хлеба необходимо было сдать государственным уполномоченным. Всего
предполагалось закупить 772 млн. пудов хлеба для снабжения армии, оборонной
промышленности и крупных городов[74].
А. А. Риттих предполагал, что он «за три недели поставит
на ноги продовольственное дело в империи», однако к началу февраля министр был
вынужден признать провал своих планов. Многие губернии требовали уменьшить
размеры разверстки, крестьянские общины и помещики отказывались выполнять
задания[75]. М.
В. Родзянко в записке, предназначенной для правительства, констатировал, что из
намеченных к разверстанию 772 млн. пудов на 23 января 1917 года было реально
разверстано волостями лишь 4 млн. пудов, и «эти цифры свидетельствуют о полном
крахе разверстки»[76].
За две недели до революции Риттих пессимистически признал, что, действительно,
«может наступить катастрофа»[77]. В
конечном счете, к лету 1917 года, уже после революции, было собрано в счет
разверстки не более 170 млн. тонн зерна вместо намеченных 772 млн.[78]
Разверстка не удалась, и нужно было искать способы немедленного
получения хлеба. В декабре 1916 года было начато изъятие хлеба из сельских
запасных магазинов, в которых деревенские общины хранили запасы на случай
голода. Эта мера вызвала бурный протест крестьян и была отменена после того,
как столкновения с полицией приняли массовый характер. Были введены надбавки к
твердым ценам за доставку зерна на железнодорожные
станции; широко использовались
угрозы реквизиции у не желавших
продавать
хлеб помещиков. В декабре удалось закупить 63 млн. пудов (52% к плану), но почти
весь этот хлеб пошел на снабжение армии. Города получали лишь малую часть
закупок, задания по снабжению гражданского населения были выполнены в январе на
20%, в феврале – на 30%[79].
А. Г. Шляпников приводит конкретные данные о степени выполнения
снабженческих заявок по некоторым городам и губерниям. Так, для Пскова было
запланировано поставить в ноябре и декабре 1916 года 321 вагон муки и зерна, а
фактически было поставлено к концу января 1917 года только 76 вагонов. Для
Новгородской губернии было запланировано 1800 вагонов, поставлено только 10.
Для Вологодской губернии было запланировано поставить 1080 вагонов, поставлено
200. Для Рязанской губернии планировалось поставить 582 вагона, а фактически
поставлено к концу января лишь 20 вагонов. Из-за отсутствия зерна во многих
городах (в частности, в Царицыне, Тамбове, Нижнем Новгороде) остановились мельницы[80].
Городское население какое-то время жило за счет запасов, еще
имевшихся в торговой сети и на элеваторах (см. рис. 5.4), но они быстро
подходили к концу. К началу 1917 года продовольственный кризис в городах принял
катастрофический характер. Многочисленная мемуарная литература свидетельствует
об отсутствии хлеба, огромных очередях у продовольственных магазинов в
столицах. Тяжелым было положение и в других городах, даже на Черноземье, где в
соседних с городами деревнях от хлеба ломились амбары. В Воронеже населению
продавали только по 5 фунтов муки в месяц, в Пензе продажу сначала ограничили
10 фунтами, а затем вовсе прекратили. В Одессе, Киеве, Чернигове, Подольске
тысячные толпы стояли в очередях за хлебом без уверенности что-либо достать. В
декабре 1916 года карточки на хлеб были введены в Москве, Харькове, Одессе,
Воронеже, Иваново-Вознесенске и других городах. В некоторых городах, в том
числе, в Витебске, Полоцке, Костроме, население голодало[81].
Некоторые авторы
утверждают, что в непоставках хлеба были повинны железные дороги, не
справлявшиеся с перевозками из-за изношенности подвижного состава и снежных
заносов, что хлеб был, но он лежал на станциях[82]. Данные, приводимые Н. Д. Кондратьевым, говорят, что это не так.
За декабрь 1916 – апрель 1917 года Петербургский и Московский районы не
получили 71% планового количества хлебных грузов, на 80% эта непоставка
объяснялась отсутствием груза и лишь на 10% – неподачей вагонов[83]. В снабжении фронта наблюдалась та же картина: в ноябре 1916 года
фронт получил 74% продовольствия, в декабре – 67%. 87% непоставки интендантских
грузов в эти месяцы произошло по вине Министерства земледелия, и лишь 13% – по
вине железнодорожников[84].
Что касается технического состояния железнодорожного транспорта,
то количество паровозов составляло в 1914 году 20,0 тыс., в 1916 году – 19,9
тыс., количество товарных вагонов соответственно 485 и 504 тыс., доля «больных»
вагонов – 3,7% и 5,6%; интенсивность перевозок увеличилась за это время на одну
треть. До начала 1917 года положение на транспорте оставалось еще более-менее
удовлетворительным, резкое ухудшение наступило уже после Февральской революции[85]. Таким образом, до февраля 1917 года техногенный фактор не играл существенной роли в развитии
кризиса.
Подводя итоги описанию экономической ситуации в 1916
году, можно констатировать, что вызванный войной и предшествующим Сжатием
финансовый кризис привел к разрушению экономических связей, к потере
хозяйственной управляемости и к голоду в городах. В соответствии с демографически-структурной
теорией следующим этапом должна была быть потеря административной управляемости
и коллапс государства.
Уже осенью 1916 года повышение хлебных цен породило новую волну голодных бунтов и забастовок
в промышленных районах. 17 октября началась стихийная забастовка 30 тысяч
рабочих Выборгского района Петрограда. Рабочие направились к казармам, где
размещалось 12 тысяч солдат 181 полка, и солдаты присоединилась к рабочим
(правда, они не имели оружия). Казаки отказались стрелять в народ, на
подавление бунта был брошен лейб-гвардии Московский полк, после ожесточенных
столкновений огромные толпы рабочих и солдат были рассеяны, 130 солдат было
арестовано. Однако забастовка продолжалась еще несколько дней, и число
бастующих достигло 75 тысяч[86].
События 17-19 октября по многим признакам (нехватка
хлеба как главная мотивация, стихийность, внезапность, участие женщин, переход
солдат на сторону народа, отказ казаков стрелять в толпу) напоминают события
23-28 февраля 1917 года, и Л. Хеймсон назвал их «репетицией Февральской революции»[87]. Эта
«репетиция» настолько встревожила Министерство внутренних дел, что оно спешно
разослало циркулярные телеграммы с целью выяснить обстановку на местах. 30
октября директор Департамента полиции А. Т. Васильев представил доклад,
суммирующий донесения из губерний. В докладе говорилось, что во всех без
исключения донесениях главной причиной «озлобления масс» называется «чудовищно
растущая дороговизна». Указывалось, что в Москве и Петрограде «оппозиционность
настроений» намного превосходит уровень 1905 года, и что, если обстоятельства
не изменятся, то в обоих городах «могут вспыхнуть крупные беспорядки чисто
стихийного характера». Особо отмечалось донесение начальника Кронштадтского
гарнизона, который предупреждал, что на подавление беспорядков войсками
рассчитывать нельзя ввиду их ненадежности. В городах центрального района,
резюмировал А. Т. Васильев, положение несколько менее напряженное, чем в
столицах, что же касается деревень, то там сохраняется «спокойное, даже скорее
безразличное отношение ко всему тому, что беспокоит городское население». Среди
всех слоев населения наблюдается «охлаждение к войне», результатом которого
являются «растущее дезертирство из армии и массовые сдачи в плен (“уходы в
плен”)». Отношение к думе изменилось, потому что она «сильно разочаровала
массы». Что касается революционного движения, то в результате мобилизации в
войска «революционных организаций, как таковых, почти нигде не существует».
«Сопоставляя все выше приведенные признаки… – заключает Васильев, – обязуюсь
доложить, что, признавая положение безусловно… угрожающим государственному
порядку… возможностью возникновения в разных местностях империи, в особенности
в столицах, крупных беспорядков, департамент полиции, со своей стороны, полагает,
что нарастающее движение в настоящее время носит еще характер экономический, а
не революционный»[88].
Так же как и Дурново, Васильев основывался на опыте 1905
года и полагал, что не может быть «революции без революционеров», что сначала
должна быть пропагандистская компания в законодательных учреждениях и агитация
революционных организаций, которая поднимает народ на стачки, демонстрации, а
потом и на восстания. Это был сценарий революций 1848 года, превратившийся позже
в сценарий «революций вестернизации».
Осенняя вспышка стихийных волнений в городах убедила
оппозицию, что страна стоит на грани революции. 1 октября на заседании
Московского отделения ЦК кадетов Д. И. Шаховский, Ф.Ф. Кокошкин и В. А.
Маклаков сравнивали страну с «бушующим огненным морем». Они обвиняли правительство
в продовольственном кризисе, но признавали при этом, что у кадетов нет плана
разрешения этого кризиса[89]. «До
революции осталось всего лишь несколько месяцев, если таковая не вспыхнет стихийным
порядком гораздо раньше», – так передавались настроения кадетского руководства
в сводке петроградского жандармского управления
за октябрь 1916 года[90].
Характерно, что вначале, как отмечал лидер октябристов
А. И. Гучков, оппозиция рассматривала назревающую революцию по аналогии с 1848
годом, ожидая, что рабочие свергнут правительство, а затем «разумные люди,
вроде нас, будут призваны к власти». Но затем пришло понимание того, что
ситуация изменилась, что «те, которые будут делать революцию, встанут во главе
этой революции». Поэтому необходимо было действовать самим, чтобы упредить
революцию[91].
«Времени для размышления не оставалось, – пишет Р. Пайпс. – Информация,
имевшаяся в распоряжении политических деятелей в Москве и Петербурге (и
конфиденциально подтвержденная, как нам теперь известно, полицией) указывала на
то, что экономические трудности могут в любой момент вызвать массовые беспорядки.
Чтобы предупредить это, Думе следовало взять власть в свои руки, и как можно
быстрее…»[92]
Таким образом,
либеральная оппозиция не обращалась к поддержке народа, как это было в 1905
году. Она учла опыт первой революции, и теперь всеми силами старалась
предотвратить народное восстание. Как
говорил В. В. Шульгин, «весь смысл существования Прогрессивного блока был
предупредить революцию и тем дать
возможность довести войну до конца»[93].
Между тем, для правительства естественный способ
предупредить революцию состоял в заключении сепаратного мира с Германией.
Осенью 1916 года имели место контакты между доверенными лицами русского и
германского правительств; 3 октября правительство Б. В. Штюрмера передало в Вену
и в Берлин русские условия мира. Сведения о сепаратных контактах стали известны
союзникам по Антанте, и английский посол Д. Бьюкенен вошел в сношения с
либеральной оппозицией с целью добиться отстранения Штюрмера[94]. 1 ноября 1916 года П. Н. Милюков произнес в
Думе свою знаменитую речь, обвинив премьер-министра в предательстве. Как
отмечалось выше, социальный конфликт в условиях войны приобрел еще одно
измерение: крестьяне-фронтовики обвиняли дворянскую элиту в измене. Речь
Милюкова послужила «официальным подтверждением» этих подозрений и подлила масла
в огонь ненависти. Огромный пропагандистский эффект этого выступления
подчеркивается многими исследователями[95],
причем Л. Хеймсон выражает удивление по поводу того, что Милюков, всегда
боявшийся революции, решился пойти на риск дестабилизации правящего режима[96]. В
конечном счете, царь был вынужден отправить Штюрмера в отставку и назначить на
его место англофила А. Ф. Трепова.
В момент нового обострения борьбы между либеральной
оппозицией и монархией группа правых сановников, вдохновляемая П. Н. Дурново,
представила царю программную записку с оценкой политического положения. Эта
записка во многом повторяла выводы предвоенного «пророчества Дурново»: ее
авторы выступали против уступок либеральной оппозиции потому, что либералы
«столь слабы, столь разрозненны, и, надо говорить прямо, столь бездарны, что их
торжество было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». Главную опасность
сановники видели не в либералах, а в левых революционных партиях: «Опасность и
силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги, есть толпа,
готовая и хорошо организованная». Революционные партии «вправе рассчитывать на
сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за
пролетариатом тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю».
Уступки либералам не спасут положения монархии, потому, что «затем выступила бы
революционная толпа», следом за либералами пришли бы «коммуна, гибель династии,
погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник»[97]. Л.
Д. Троцкий отмечает «историческое предвиденье» авторов этого документа[98], и,
во всяком случае, нельзя отрицать того, что многоопытные бюрократы, владевшие
подробной информацией о происходившем в стране, были способны сделать
достаточно точный прогноз развития событий.
Рекомендации авторов записки сводились к созданию
правительства из беспощадных сторонников самодержавия, к упразднению Думы,
введению осадного положения в столицах, подготовке сил для подавления
неизбежного «мятежа». «Эта программа и была, в сущности, положена в основу правительственной
политики последних предреволюционных месяцев», – резюмирует Л. Д. Троцкий[99]. Под
предлогом «рождественских каникул» Дума была вновь распущена на длительный
срок, а Трепов был заменен на посту премьера Н. Д. Голицыным.
Думская атака на правительство снова закончилась
неудачей, и оппозиция стала искать другие способы воздействия на власть. Группа
заговорщиков во главе с А. И. Гучковым работала над подготовкой военного
переворота, но вербовка офицеров-исполнителей оказалась нелегким делом. Лидеры
оппозиции установили также контакты с Рабочей группой, существовавшей при
Центральном военно-промышленном комитете, и пытались использовать эту группу,
чтобы организовать массовые манифестации рабочих в поддержку требований Думы.
Однако министр внутренних дел А. Д. Протопопов (который, конечно, был знаком с
«предсказанием Дурново») пресек эти контакты, арестовав большинство членов
Рабочей группы. Вдобавок, П. Н. Милюков испугался и обратился к рабочим с призывом
отказаться от участия в запланированной манифестации. 14 февраля 1917 года, в
день открытия новой сессии Думы, бастовало 84 тыс. рабочих; часть стачечников
провела демонстрацию на Невском проспекте, но войска не позволили большинству
демонстрантов подойти к зданию Думы. Характерно поведение рабочих Выборгского
района, которые восстали в октябре 1916 года: после того как оппозиция осудила
их выступление, они отказались демонстрировать в поддержку Думы[100].
Воззвание П. Н. Милюкова к рабочим с призывом к
спокойствию по смыслу совпадало с воззванием командующего Петроградским военным
округом генерала Хабалова[101].
Таким образом, перед лицом революции элита демонстрировала не раскол, а
сплочение. Наученные опытом 1905
года, либералы были готовы отказаться от борьбы, чтобы не вовлекать в нее
народ. «Этот путь мы отвергали, этот путь был не наш…» – говорил Милюков 27
февраля, когда революция стала реальностью[102].
Что касается социалистических партий, то они были до крайности
ослаблены мобилизациями и репрессиями. 2 января 1917 года был арестован в
полном составе петроградский комитет большевиков; на многих заводах вообще не
было большевистских партийных ячеек[103].
Руководство партии, находившееся в эмиграции, не ориентировалось в обстановке:
В. И. Ленин в лекции, прочитанной в Цюрихе в январе 1917 года, говорил, что ему
и его сверстникам, очевидно, не суждено при жизни увидеть революцию[104].
Между тем, правительство, которое критиковали за
бездействие и пассивность, искало свой выход из кризиса. Как во времена Великой
реформы и революции 1905 года, кризис заставил правительство снова обратиться к
крестьянскому вопросу. Министр внутренних дел А. Д. Протопопов предложил
провести новую земельную реформу, предусматривавшую наделение крестьян землей
за государственный счет, и Николай II дал согласие на разработку
соответствующего проекта, для начала, для трех прибалтийских губерний[105].
Одновременно возобновились энергичные попытки заключения мира. 13 февраля в
Вене были получены новые предложения русского правительства. 25 февраля Австрия
и Германия получили личное обращение Николая II, который указывал на то, что
«требование массами мира растет с каждым днем» и «за невнимание к этому
требованию правительства могут дорого заплатить[106].
Австрийский министр иностранных дел О. Чернин расценивал эти обращения «как
последнюю попытку спастись»[107].
Однако Германия отвергла русские условия, не без основания надеясь на быстрое
ухудшение положения в России[108].
В. С. Измозик, проанализировав массовый материал
перлюстрации полицией частных писем, делает вывод, что «господствующим в
политически активных слоях общества было действительно ожидание близкого краха»[109].
Председатель Думы М. В. Родзянко писал 26 декабря: «Мы накануне таких событий,
которых… еще не переживала святая Русь, и нас ведут в такие дебри, из которых
нет возврата»[110].
Волна голодных стачек в городах быстро нарастала. О том,
что с лета 1916 года интенсивность рабочего движения определялась уже не
политическими и военными событиями, не призывами партий, а голой экономической
реальностью, говорит появившаяся с этого времени прямая корреляция между числом
стачечников и ценой на хлеб. По Московскому промышленному району коэффициент корреляции
между ценой на ржаной хлеб и числом экономических стачечников (составлявшим
подавляющее большинство бастующих) в период с июля 1916 по январь 1917 года
составлял 0,8[111].
В начале 1917 года речь шла уже не о росте цен, а об отсутствии хлеба.
Московский городской голова М. В. Челноков послал председателю Совета министров
четыре телеграммы, предупреждая, что нехватка продовольствия «угрожает вызвать
в ближайшие дни хлебный голод, последствием чего явится острое недовольство и
волнения со стороны населения столицы»[112]. 23
февраля председатель Общества фабрикантов московского промышленного района Ю.
П. Гужон телеграфировал военному министру, что в результате закрытия
хлебопекарен 93 тыс. рабочих не получают хлеба: «Фабрики и заводы приостанавливаются,
рабочие волнуются, уходя искать хлеба»[113].
Таким образом, в Москве назревал такой же грандиозный голодный бунт, какой
произошел в Петрограде.
Голод угрожал и
армии. В декабре 1916 года состоялось совещание в Ставке под председательством
Николая II. «На этом совещании выяснилось, что дело продовольствия войск в
будущем должно значительно ухудшиться… – писал А. А. Брусилов. – Нам не
объясняли причин расстройства народного хозяйства, но нам говорили, что этому бедственному положению помочь нельзя»[114].
Пока же солдатам в окопах вместо 3 фунтов хлеба в день стали давать 2 фунта, а
в прифронтовой полосе – 1,5 фунта. Лошади почти не получали овса и находились в
истощенном состоянии, поэтому артиллерия потеряла мобильность, и армия уже не
могла наступать. В случае отступления такое положение должно было привести к
потере артиллерии и обозов[115].
В декабре 1916 года накопившееся недовольство солдатских
масс, наконец, прорвалось в массовых выступлениях непосредственно на фронте. В
ходе Митавской операции 23-29 декабря отказался идти в атаку 17 пехотный полк,
затем к нему присоединились еще несколько полков, волнения охватили части трех
корпусов и десятки тысяч солдат. Командование все же смогло справиться с
ситуацией; около ста наиболее активных участников выступления были расстреляны,
несколько сот были осуждены на каторгу[116].
В начале 1917 года по распоряжению председателя Совета
министров было проведено обследование настроений войск на Северном и Западном
фронтах. В материалах этого обследования отмечалось, что солдаты видят в
деятельности правительства «измену и предательство» и был сделан вывод, что
«возможность того, что войска будут на стороне переворота и свержения династии,
допустима, так как, любя царя, они все же слишком недовольны всем управлением
страны»[117].
Командующий Юго-Западным фронтом А. А. Брусилов писал: «Можно сказать, что к
февралю 1917 года вся армия… была подготовлена к революции»[118].
Генерал А. М. Крымов говорил председателю Думы М. В. Родзянко незадолго до
Февральской революции: «Армия в течение зимы может просто покинуть окопы и поле
сражения. Таково грозное, все растущее настроение в полках»[119].
Наиболее опасным для властей было то обстоятельство, что
на фронте заканчивались запасы продовольствия. В начале февраля на Северном
фронте продовольствия оставалось на два дня, на Западном фронте запасы муки
закончились и части перешли на консервы и сухарный паек[120]. 22
февраля Николай II срочно отправился из Петрограда в Ставку спасать армию от
продовольственного кризиса[121]. Но
на следующий день под воздействием того же продовольственного кризиса начались
массовые волнения в Петрограде.
В течение 1916 года
среднее месячное потребление муки в Петрограде составляло 1276 тыс. пудов.
Перебои с поставкой начались в ноябре, когда в столицу было доставлено 1171
тыс. пудов; в декабре поставка упала до 606 тыс. пудов, в январе было
доставлено 731 тыс. пудов[122]. В течение первых двух месяцев 1917 года установленный
план снабжения Москвы и Петрограда хлебом был выполнен только на 25%. Петроград
жил на счет запасов, которые стремительно уменьшались; с 15 января до 15
февраля запасы муки уменьшились с 1426 до 714 тыс. пудов. 13 февраля
градоначальник А. П. Балк сообщал премьер-министру, то за последнюю неделю
подвоз муки составлял 5 тыс. пудов в день при норме 60 тыс. пудов, а выдача муки
пекарням – 35 тыс. пудов в день при норме 90 тыс. пудов. А. А. Риттих объяснял
февральский срыв снабжения Петрограда снежными заносами; утверждалось, что 5700
вагонов застряли в пути из-за снегопадов. Однако трудности такого рода бывали
всегда: в начале 1916 года оказались под снегом 60 тыс. вагонов – но это прошло
незамеченным, потому что в городах были достаточные запасы хлеба. Очевидно, что
временные срывы поставок начинают ощущаться лишь в период кризиса, когда
система снабжения готова рухнуть и достаточно малейшего толчка, чтобы произошла
катастрофа. Впрочем, по некоторым сведениям, дело было не в заносах на железных
дорогах: 16 февраля на совещании в Ставке главноуправляющий Министерства
земледелия Грудистов оправдывал кризис снабжения не неподачей вагонов, а тем,
что метели затруднили подвоз хлеба к станциям. Как бы то ни было, поставки не
выполнялись и в предшествующие месяцы, так что снежные заносы (если они
действительно имели место) только ускорили кризис. К 25 февраля запасы
уменьшились до 460 тыс. пудов, а по другим сведениям – до 300 тыс. пудов[123].
Правительство прекрасно понимало всю опасность
сложившейся ситуации – и делало все возможное, чтобы избежать восстания. Как
отмечалось выше, в конце января на переговорах со странами Антанты министр
финансов П. Барк говорил о надвигающейся катастрофе и просил о предоставлении
срочного кредита для укрепления курса рубля. Английский представитель лорд
Мильнер ответил на это, что «увы, англичане не волшебники», но пообещал
рекомендовать своему правительству рассмотреть вопрос о кредите[124]. Сомнительно, чтобы эти неопределенные обещания могли
помочь царскому правительству, и в любом случае было слишком поздно: делегаты
еще не успели вернуться на родину, как началась революция. Провожая своих
делегатов, французский посол М. Палеолог поручил им передать президенту, что
Россия находится накануне революции, что в октябре посланные на расправу с
рабочими полки уже поворачивали свое оружие против полиции и в случае восстания
царское правительство не сможет рассчитывать на армию[125].
Английский посол Д. Бьюкенен еще до конференции
попытался предупредить царя о грозящей опасности, он говорил о необходимости
примирения с Думой, о жестоком продовольственном кризисе и о ненадежности
войск. «Революция носилась в воздухе, – писал Д. Бьюкенен, – и единственный спорный
вопрос заключался в том, придет она сверху или снизу… Народное восстание,
вызванное всеобщим недостатком хлеба, могло вспыхнуть ежеминутно»[126]. Когда на торжественном обеде 22 января Д. Бьюкенен
сказал императору, что, по его сведениям, продовольственное снабжение прекратится
через две недели, и что нужно спешить с принятием мер, то император согласился
и прибавил, что «если рабочие не будут получать хлеба, то несомненно, начнутся
забастовки»[127]. В этом ответе Николая II, так же как в ответе лорда
Мильнера, и в обсуждении на совещании в Ставке явственно просматривалось
признание того факта, что продовольственное положение будет ухудшаться и что «этому бедственному положению помочь
нельзя».
Таким образом, оставалось готовиться к голодному бунту –
и правительство готовилось. Иногда высказывается мнение, что власти
демонстрировали «вопиющую беспомощность и непредусмотрительность», что если бы
не их некомпетентность, то вспыхнувший бунт можно было бы подавить[128]. В действительности власти планомерно и тщательно
готовились к подавлению неизбежного восстания. Комиссия под председательством
командующего Петроградским военным округом генерала Хабалова закончила в
середине января разработку плана дислокации и действий войск. Во главе карательных
частей был поставлен командующий гвардейскими запасными частями генерал
Чебыкин. Полки были расписаны по районам. В каждом из шести полицмейстерств
полиция, жандармерия и войска объединялись под командованием особых
штаб-офицеров. Власти пошли на беспрецедентный шаг: они вооружили полицейские
части пулеметами; в Петрограде на крышах домов было оборудовано не менее 50
пулеметных гнезд[129]. Полковник Д. Ходнев свидетельствует, что
«петроградская полиция, как пешая, так и конная, равно как и жандармские части,
были достаточны по численности и находились в образцовом порядке»[130]. Всем рядовым чинам полиции было объявлено, что им, как
солдатам осажденной крепости, будет выдаваться усиленный оклад: от 60 до 100
рублей. Министр внутренних дел А. Д. Протопопов резко усилить агентурную
деятельность; благодаря этому он был хорошо осведомлен о планах оппозиции, и в
частности, о готовившейся Рабочей группой демонстрации 14 февраля. К началу
этой демонстрации полицейские пулеметчики заняли свои посты на крышах домов, а
почти все ее организаторы были арестованы[131]. Как считает Л. Хеймсон, это было одной из причин того,
что намеченная манифестация не приобрела большого размаха[132]; за этот успех А. Д. Протопопов удостоился личной
благодарности царя[133]. Таким образом, власти действовали предусмотрительно, и
в некоторых случаях достаточно эффективно – поэтому революцию невозможно списать
на их «вопиющую беспомощность».
Однако министра внутренних дел беспокоил вопрос о
дислокации в Петрограде ненадежных запасных батальонов находившихся на фронте
гвардейских полков – и это беспокойство было вполне понятно в свете имевших
место восстаний запасников в Кременчуге и Гомеле. Как писал позднее А. Д.
Протопопов, он обратился к генералу Хабалову с просьбой вывести из города
запасные батальоны, но Хабалов ответил, что в округе нет других казарм, и
заверил министра, что «войска исполнят свой долг»[134]. Однако многие сведущие представители власти, в том
числе начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачев, продолжали
высказывать сомнения в надежности запасных батальонов, в частности, потому, что
солдаты этих батальонов явно не желали отправляться на фронт (отправка была
назначена на 1 марта)[135]. В начале 1917 года прошел большой призыв и казармы запасных
батальонов были переполнены; в них находилось около 200 тыс. солдат. «Вышедшие
из лазаретов рассказывали об ураганном огне, о страшных потерях, – писал С.С.
Ольденбург, – Солдатские массы были проникнуты одним страстным желанием – чуда,
которое избавило бы их от необходимости “идти на убой”»[136]. 9 января на совещании в штабе Петроградского военного
округа Глобачев прямо спросил генерала Чебыкина: «Ручаетесь ли вы за войска?».
Чебыкин ответил: «За войска я вполне ручаюсь, тем более что подавлять
беспорядки будут назначены самые отборные, самые лучшие части – учебные
команды»[137]. Учебные команды состояли из специально отобранных
солдат, проходивших подготовку для последующего назначения сержантами. В
отношении других воинских частей были приняты меры к изоляции их от
петроградского населения; на проходные казарм были поставлены учебные команды,
и солдат не выпускали на улицу; солдатам не давали
оружия, находившегося под охраной специальных нарядов[138].
Тем не менее, Николай II испытывал тревогу и отдал
приказ перевести в Петроград с фронта четыре надежных (как он считал) полка
гвардейской кавалерии. Но приказ не был выполнен. А. И. Гучков (со слов
командующего гвардейским кавалерийским корпусом принца Лихтенбергского) рассказывал,
что офицеры-фронтовики стали протестовать, говоря, что они не могут приказать
своим солдатам стрелять в народ: «это не сражение». В итоге вместо гвардейской
кавалерии в Петроград были присланы три флотских экипажа, в надежности которых
Протопопов глубоко сомневался[139]. Впрочем, нельзя утверждать, что у властей не было
надежных частей: в подавлении «беспорядков» 26 февраля участвовали десять
эскадронов гвардейской кавалерии из Красного Села и Павловска[140].
Обеспокоенная продовольственной ситуацией Петроградская
городская дума 13 февраля высказалась за введение нормирования продажи хлеба;
19 февраля градоначальник Балк решил ввести карточную систему с первых дней
марта[141]. Слухи о введении карточек быстро распространились; с середины
февраля печать сообщала о предстоящем в ближайшее время введении карточной
системы и о том, что на взрослого едока будет отпускаться не более 1 фунта
хлеба в день. 1 фунт в день – это норма, недостаточная для нормального питания
взрослого человека, что же касается детей, то на них планировалось отпускать
вдвое меньше. Разумеется, это вызвало стремление запастись хлебом, которое
быстро переросло в продовольственную панику. Необходимо подчеркнуть, что паника
не была случайностью – это была естественная реакция населения на стремительное
уменьшение запасов. Газета «Речь» писала 14 февраля: «У мелочных лавок и у
булочных тысячи обывателей стоят в хвостах, несмотря на трескучие морозы, в
надежде получит булку или черный хлеб. Во многих мелочных лавках больше 1-2
фунтов на человека в день не продают, обывателям приходится являться в лавки со
всеми своими домочадцами…»[142]. «У нас сейчас расклеены на всех заборах объявления
градоначальника с убеждением рабочих не бастовать и обещанием расстрела, –
свидетельствует одно из перлюстрированных полицией писем. – Готовится второе
9-е января. По всему судя, резюмируя все слухи и факты – быть взрыву. Но к чему
это приведет? Чья возьмет? Страшно подумать: у нас нет хлеба…»[143] 21 февраля пристав 4-го участка Нарвской части
докладывал градоначальнику о нехватке хлеба и быстром росте недовольства:
«Явление это крайне прискорбно и нежелательно, уже потому, что рабочий, не имея
времени стоять в очереди, хлеба купить никак не может, а когда освобождается,
такового в лавках уже не имеется»[144]. 22 февраля пристав 2-го участка Выборгской части
докладывал: «Среди… рабочей массы происходит сильное брожение вследствие
недостатка хлеба; почти всем полицейским чинам приходится ежедневно слышать
жалобы, что не ели хлеба по 2-3 дня и более, и поэтому легко можно ожидать
крупных уличных беспорядков. Острота положения достигла такого размера, что
некоторые, дождавшиеся покупки фунтов двух хлеба, крестятся и плачут от радости»[145]. Директор департамента полиции, в свою очередь,
докладывал министру внутренних дел: «…продолжающееся возрастание цен неустанно
поддерживает в столичном населении настолько повышенно-нервное настроение, что
при условии достаточного к тому повода в Петрограде действительно могут
произойти массовые стихийные беспорядки…»[146]
23 февраля рабочие праздновали международный женский
день. Накануне на собраниях и митингах большевики призывали работниц отказаться
от «несвоевременных» выступлений. Тем не менее, текстильщицы Невской ниточной
мануфактуры объявили забастовку и толпой, с криками «Хлеба!», двинулись снимать
с работы рабочих соседних заводов. Все это происходило на Выборгской стороне,
которая еще не вполне успокоилась после октябрьских событий. Движение
разрасталось как снежный ком; к вечеру число бастующих достигло 60 тысяч;
произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией[147].
Политические партии
пока не придавали особого значения этим событиям. Выступая в Думе, лидер
думских социалистов А. Ф. Керенский не звал к революции, а предостерегал об
опасности всесокрушающего голодного бунта. «Ведь масса, стихия, у которой
единственным царем делается голод, у которой… вместо рассуждения является
острая ненависть ко всему, что препятствует им быть сытыми, уже не поддается
убеждению и словам»[148].
24 февраля бастовало
уже 200 тысяч рабочих. Полиция разгоняла митингующих, но они вскоре собирались
в других местах. Этот день – в соответствии с обычной картиной голодного бунта
– был ознаменован разгромом и разграблением большого числа булочных и других
магазинов[149]. Ни правительство, ни либеральная оппозиция еще не
понимали смысла происходивших событий. «Удивительно, как мало значения придавали
демонстрациям 23-25 февраля те, кого это более всего касалось… – писал Г.М.
Катков. – В думских дебатах о демонстрациях не упоминали; Совет министров,
заседавший 24 февраля, демонстрации даже не обсуждал… Даже революционная
интеллигенция Петрограда не отдавала себе отчета в том, что происходит.
Мстиславский-Масловский, старый эсер-боевик, говорит в своих мемуарах, что
революция, “долгожданная, желанная”, застала их, “как евангельских неразумных
дев, спящими”»[150]. «Какая там революция! – говорил 25 февраля
руководитель бюро ЦК большевиков А. Г. Шляпников. – Дадут рабочим по фунту
хлеба и движение уляжется»[151].
Таким образом,
либеральная оппозиция и революционные партии придерживались той же точки
зрения, что Дурново и Протопопов: они
считали, что без их агитации и организации революция невозможна. Но, к
всеобщему удивлению, революция оказалась «неорганизованной» и чисто стихийной,
«революцией без революционеров».
Выводы современных
исследователей подтверждают мнение современников о стихийном характере восстания.
«С точки зрения революционного руководства февральское восстание имело две характерные
черты, – отмечает Ц. Хасегава. – Во-первых, движение не имело руководства,
достаточно сильного, чтобы организовать массы в революционную силу. Во-вторых,
руководители революционных партий не играли большой роли в восстании»[152]. «Революция оказалась не только стихийной, но и
беспартийной», – заключает В. П. Булдаков[153].
С одной стороны, и
оппозиция, и власти постоянно говорили об опасности беспорядков, восстания,
революции – но когда революция началась, они не приняли происходящее всерьез. С
точки зрения Милюкова, движение оставалось «бесформенным и беспредметным»; оно
сводилось к разгромам булочных и митингам под лозунгами «Хлеба!» и «Долой
войну!»[154]. Днем 25 февраля императрица телеграфировала царю: «Это
хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет
хлеба…»[155]. Ближе к вечеру председатель Думы Родзянко встретился с
главой кабинета Голицыным, военным министром Беляевым и Риттихом, но не смог
получить от них вразумительного ответа на вопросы о мерах по организации
хлебного снабжения и по умиротворению горожан. «Дайте мне власть, и я
расстреляю, но в два дня все будет спокойно и будет хлеб», – самоуверенно
заявил Родзянко[156]. Это заявление было вполне характерно для оппозиции,
готовой на все, чтобы получить власть, но слова о том, что «будет хлеб», были,
конечно, блефом – невероятно, чтобы некомпетентный в этом вопросе Родзянко мог
обеспечить хлебное снабжение лучше, чем Риттих.
Хабалов, как и
правительство, видел в происходящем лишь продовольственные волнения, поэтому он
не давал полицейским разрешения на применение оружия и избегал использовать
войска. Между тем, 25 февраля демонстранты осмелели и стали нападать на
полицейских; в течение дня произошло 11 серьезных столкновений, когда в полицию
стреляли и бросали бомбы. На Выборгской стороне демонстранты напали на два
полицейских участка; несколько полицейских было убито. Обнаруживались все новые
свидетельства ненадежности войск. Солдаты Финляндского полка после одного из
столкновений вернулись в казармы и дали клятву не стрелять в народ. Казаки не
подчинялись приказам и обнаруживали прямую склонность к братанию с толпой.
Когда на Знаменской площади конная полиция атаковала митинг, казаки ударили ей
в тыл и прогнали полицейских. На Казанской улице казаки освободили арестованных
и избили городовых, обвиняя их в том, что они служат за деньги[157].
Один из
информированных агентов охранки (член Выборгского районного комитета
большевиков) составил для властей обстоятельный обзор событий 23-25 февраля.
«…Движение вспыхнуло стихийно, без подготовки и исключительно на почве
продовольственного кризиса, – говорилось в этом обзоре. – Так как воинские
части не препятствовали толпе, а в отдельных случаях даже принимали меры к
парализованию начинаний чинов полиции, то масса получила уверенность в своей
безнаказанности и ныне… народ уверился в мысли, что началась революция, что
решительная победа близка, так как воинские части не сегодня-завтра выступят
открыто на стороне революционных сил… Ныне все зависит от линии поведения
воинских частей, если последние не перейдут на сторону пролетариата, то
движение быстро пойдет на убыль, если же войска станут против правительства, то
страну уже ничего не спасет от революционного переворота»[158].
Вечером 25 февраля
на Невском проспекте произошли два больших столкновения, в ходе которых
офицеры, чтобы сдержать натиск толпы, по собственной инициативе приказывали
солдатам открывать огонь. Властям становилось ясно, что без применения оружия
не обойтись. Ближе к ночи командующий военным округом генерал Хабалов получил
телеграмму царя с требованием во что бы то ни стало прекратить беспорядки[159].
События развивались
неумолимо: война породила инфляцию, инфляция породила продовольственный кризис,
продовольственный кризис породил голодный бунт, и, хотя власти не желали применять
оружие для его подавления, они были вынуждены отдать роковой приказ. Как теперь
становится ясным, отдавать такой приказ ненадежным войскам – войскам, состоящим
из крестьян, которые ненавидели власть, не желали сражаться за нее и требовали
земли, – означало провоцировать почти неизбежный солдатский мятеж и революцию. Это означало, что все три фактора
брейкдауна, о которых говорилось выше – падение авторитета власти, голод в
городах и ненадежность войск – будут действовать вместе.
А. Д. Протопопов
действовал по сценарию, успешно реализованному 14 февраля. Полицейские пулеметчики
заняли свои места на крышах домов. В ночь с 25 на 26 февраля были арестованы
почти все находившиеся в Петербурге активные деятели левых партий – свыше 100
человек, в том числе сестра Ленина А. И. Ульянова-Елизарова, пять членов
комитета большевиков и остатки Рабочей группы. Исходивший из традиционных
представлений Протопопов надеялся таким образом обезглавить революцию. Но как
вскоре выяснилось, арестованные ничем не руководили; революция развивалась сама
собой – это была «революция без
революционеров»[160].
26 февраля войска
получили приказ стрелять в демонстрантов. Хабалов вывел на улицы самые верные,
как он считал, части – учебные команды[161]. К вечеру центр города с помощью пулеметов был «очищен»
от митингующих. Самый большой расстрел произошел на Знаменской площади, где действовала
учебная команда Волынского полка во главе с капитаном Лашкевичем; здесь было убито
больше сорока человек. Однако рабочие–очевидцы расстрелов сразу же бросились к
казармам запасных частей, умоляя запасников остановить своих товарищей из
учебных команд, и уже вечером в день расстрела произошел первый солдатский
бунт. Состоявшая из фронтовиков четвертая рота Павловского полка (1500 солдат)
двинулась в город, но у восставшей роты было лишь 30 винтовок, и, расстреляв
все патроны, она была вынуждена положить оружие и вернуться в казармы[162]. «Могло казаться, что царизм снова выиграл ставку и
движение будет раздавлено», – писал Н. Н. Суханов[163].
Но затем произошло
неожиданное – и вместе с тем давно ожидавшееся, то, о чем предупреждал Дурново,
и то, что уже не раз повторялось при подавлении голодных бунтов: войска перешли
на сторону народа. Всю ночь на 27 февраля генерал Хабалов получал тревожные
сообщения из казарм, поначалу они не подтверждались, но в штабе ожидали нового
солдатского бунта – и он произошел. Вернувшиеся после расстрелов солдаты
Волынского полка на ночной сходке решили больше не подчиняться карательным
приказам – однако речь об организации какого-либо выступления на сходке не шла.
Когда утром Лашкевич пришел
на построение, солдаты отказались повиноваться; капитан вышел во двор казармы – и тут из окна прогремел сразивший его выстрел.
Кто стрелял – осталось неизвестным, но выстрел послужил сигналом к бунту[164]. Восстание было настолько спонтанным, что в ответ на вопрос
об инициаторах выступления Волынского полка солдаты называли шесть разных имен[165]. Солдаты вышли на улицу и направились поднимать другие
полки; вскоре они соединились с рабочими Выборгской стороны, которые захватили
оружие и сражались с полицией. Колонна солдат и рабочих двигалась по Петрограду
от казармы к казарме; в некоторых случаях восставшим приходилось преодолевать
сопротивление стоявших на проходных учебных команд, прежде чем запертые в
казармах солдаты получали возможность присоединиться к «мятежникам». В других
случаях части сами выходили навстречу восставшим с музыкой и с пением
«Марсельезы». Лишь один самокатный полк, в который набирали призывников из
состоятельных слоев населения, отказался участвовать в «мятеже» – однако его
сопротивление было быстро подавлено. Утром 27 февраля восставших солдат насчитывалось
10 тысяч, днем – 26 тысяч, вечером – 66 тысяч, на следующий день – 127 тысяч, 1
марта – 170 тысяч, т.е. весь гарнизон Петрограда. Днем 27 февраля Хабалов
отправил отряд (сколько смог собрать – всего лишь около тысячи солдат) против
«мятежников», но после незначительных столкновений солдаты перешли на сторону
восставших. После этого Хабалов сосредоточил последние верные царю части у
Зимнего дворца и Адмиралтейства; генерал Занкевич вышел переговорить с
солдатами и понял, что на них рассчитывать нельзя; солдаты понемногу самовольно
покидали Дворцовую площадь. К утру у Хабалова в Адмиралтействе осталось только
полторы тысячи солдат, которые потребовали у генералов отпустить их (но Хабалов
утверждал, что он сам распустил солдат под угрозой обстрела из пушек
Петропавловской крепости). Генералы остались в Адмиралтействе дожидаться ареста[166].
Современные историки
согласны во мнении, что солдатский бунт сыграл решающую роль в революции[167]. Впечатление от яростного бунта огромной массы солдат
было таково, что уцелевшие офицеры в ужасе разбежались и попрятались. «Развитие
бунта говорит о том, что ничего нельзя было сделать, чтобы его остановить», –
констатирует Р. Пайпс[168]. Однако многие полицейские наряды, используя
размещенные на крышах зданий пулеметы, сражались до последнего патрона[169]. «Петроградская полиция самоотверженно, честно и
доблестно исполнила свой долг перед царем и родиной, – свидетельствует
полковник Д. Ходнев. – Она понесла огромные потери»[170]. Разъяренные солдаты устроили полиции «кровавую баню». «Запасы
противочеловеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на
улицы Петрограда…» – писал офицер, свидетель событий[171]. В конечном счете, перепуганная полиция перешла на
сторону восставших, и одна из жандармских рот даже прошествовала к зданию Думы
под красным знаменем и под звуки «Марсельезы»[172].
Председатель Думы
Родзянко рассказывал неделю спустя, что восставшие солдаты, были на самом деле,
«конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, которые все свои мужицкие
требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе –
“земли и воли”, “долой Романовых”, “долой офицеров”…»[173] 28 февраля у солдат появились первые, наспех
изготовленные плакаты, и на них было написано: «Земля и воля!»[174]. 1-2 марта по всему городу происходили митинги, и
главное требование солдат выражалось все тем же лозунгом: «Земля и воля!»[175] Когда две недели спустя происходил первый парад
революционного петроградского гарнизона, М. Палеолог внимательно читал лозунги,
которые несли солдаты на своих знаменах – почти на всех знаменах были надписи:
«Земля и воля!», «Земля народу!»[176]
Таким образом, это
был, собственно, не солдатский бунт, а крестьянское восстание. Подобно тому,
как всеобщая стачка октября 1905 года спровоцировала крестьянскую войну, так и
голодный бунт в феврале 1917 года спровоцировал крестьянское восстание. И
поскольку на этот раз крестьяне имели в руках оружие, и к тому же находились в
столице, то все решилось в один день. При такой расстановке сил исход событий
был предопределен.
Николай II в это
время находился в штабе генерала Н. В. Рузского, командующего Северным фронтом.
При первых известиях о мятеже царь направил к Петрограду четыре полка под
командованием генерала Иванова, однако железнодорожники остановили движение
эшелонов вблизи Петрограда и отборные полки карателей (даже составлявший охрану
царя батальон георгиевских ветеранов) были разагитированы революционерами.
Дальнейшие действия царя зависели от позиции командующих фронтами, а она, свою
очередь, определялась боязнью революции на фронте. 1 марта начальник генерального
штаба М. В. Алексеев телеграфировал царю о том, что вслед за Петроградом
восстала Москва и что революция грозит распространиться на армию[177]. Ночью 2 марта Родзянко после переговоров с
Петроградским Cоветом сообщил Рузскому и Алексееву о том, что положение
в столице диктует необходимость отречения. Алексеев запросил мнение командующих
фронтами и флотами, сообщив, что сам он выступает за отречение с тем, чтобы
предотвратить развал армии; все командующие согласились с мнением Алексеева.
Некоторые из них, вслед за Алексеевым, указывали на опасность распространения
революции на армию. Командующий Западным фронтом А. Е. Эверт писал: «Я принимаю
все меры к тому, дабы сведения о настоящем положении дел в столице не проникли
в армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений». Командующий Балтийским
флотом адмирал Непенин телеграфировал: «С огромным трудом удерживаю в
повиновении флот и вверенные мне войска. В Ревеле положение критическое… Если
решение не будет принято в течение ближайших часов, то это повлечет за собой
катастрофу»[178].
При обсуждении
ситуации снова встал вопрос о наличии надежных частей для борьбы с восстанием.
Как говорил Николаю II посланец Думы А. И. Гучков, «надежных» частей просто не
было: «…Движение захватывает низы, и даже солдат, которым обещают отдать землю.
Вторая опасность, что движение перекинется на фронт… Там такой же горючий
материал, и пожар может перекинуться по всему фронту, так как нет ни одной
воинской части, которая, попав в атмосферу движения, тотчас не заражалась бы.
Вчера к нам в Думу явились представители… конвоя Вашего Величества, дворцовой
полиции и заявили, что примыкают к движению»[179]. Гучкова поддержал генерал Рузский: «Нет такой части,
которая была бы настолько надежна, чтобы я мог послать ее в Петербург»[180]. Взвесив все обстоятельства – и в особенности мнение
командующих фронтами – царь подписал заявление об отречении от престола.
Как позиция военных,
так и отречение Николая II были прямыми следствиями восстания 170-тысячного
гарнизона Петрограда. Единогласное решение командующих фронтами доказывает, что
другое развитие событий было невозможно. Угроза развала была очевидной, сотни
агитаторов уже направлялись из Петрограда на фронт, и генералы чувствовали, что
сидят на пороховой бочке. Восстание на флоте уже началось: 1 марта в Кронштадте
мятежные матросы убили адмирала Вирена и более 50 офицеров; 4 марта в Свеаборге
погиб адмирал Непенин[181]. 2 марта на псковской станции взбунтовался эшелон 1-го
железнодорожного батальона; мятежные солдаты двинулись к царскому поезду, и их
остановило лишь известие, что идут переговоры об отречении[182].
Что касается позиции
Думы, то о ней лучше всего рассказывает В. В. Шульгин: «К вечеру, кажется,
стало известно, что старого правительства нет… Оно попросту разбежалось по
квартирам… Не стало и войск… Т. е. весь гарнизон перешел на сторону
“восставшего народа”… Но вместе с тем войска как будто стояли “за
Государственную думу”… здесь начиналось смешение… Выходило так, что и
Государственная дума “восстала” и что она “центр движения”… Это было
невероятно… Государственная дума не восставала… “Я не желаю бунтоваться, –
говорил Родзянко. – Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу
делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались…” “Может
быть два выхода, – отвечал Шульгин, – все обойдется – государь назначит новое
правительство, мы ему и сдадим власть… А не обойдется, так если мы не подберем
власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на
заводах…”»[183] «Государственной думе не оставалось ничего другого
кроме как взять власть в свои руки и попытаться хотя бы этим путем обуздать
нарождающуюся анархию…», – заключает Родзянко[184].
Таким образом,
позиция либералов была вынужденной и диктовалась тем, что власть рухнула без их
вмешательства. Оппозиционная элита не готовила революцию и не участвовала в
ней. Временное правительство лишь «подобрало власть», но, в конечном счете, не
смогло удержать ее…
5.5. Выводы
Однако ни
переселение на окраины, ни уход в города не компенсировали быстрого роста
населения, и проблема малоземелья сохраняла свою остроту. Некоторое
увеличение потребления было достигнуто за счет роста урожайности и
относительного сокращения вывоза, но эти изменения носили, по-видимому,
временный, конъюнктурный характер и, во всяком случае, анализ не прослеживает
их непосредственной связи с реформами правительства, эффект которых мог
проявиться только в долговременном плане.
Увеличение
потребления не оказало существенного влияния на уровень социальной
напряженности, который продолжал оставаться высоким, намного более
высоким, чем до революции и лишь немногим ниже, чем в годы революции. Хотя
количество крупных выступлений в деревне уменьшилось, количество мелких
протестных акций возросло; в городах наблюдался новый мощный подъем стачечной
борьбы – все это дает основание некоторым историкам рассматривать революции
1905 и 1917 года вместе, как два этапа одной революции, разделенных периодом
обманчивого успокоения[185].
Важным следствием революции 1905 года было резкое
ослабление традиционалистской идеологии, которая прежде поддерживала
самодержавие, помогала держать народные массы в покорности и отделяла народ от
интеллигенции – в том числе и от обращавшихся к народу радикальных партий (социал-демократов
и эсеров).
В ситуации не угасшего до конца революционного движения
любое ослабление самодержавия могло вызвать новую вспышку крестьянских
восстаний. Большая война тем более должна была вызвать новый социальный кризис.
Механизм этого кризиса был типичным для
военной экономики и включал три взаимосвязанных процесса: во-первых, резкое
падение авторитета власти в результате военных поражений; во-вторых,
возникающие вследствие чрезмерной эмиссии бумажных денег расстройство
товарооборота, нехватка продовольствия в городах и голодные бунты, и,
в-третьих, все возрастающая ненадежность войск – следствие Сжатия и созданного
им глубокого социального раскола.
Русская революция была инициирована голодным бунтом в
Петрограде. То обстоятельство, что бунт вспыхнул именно 23 февраля, было до
некоторой степени случайностью, но то, что он должен был произойти, с
очевидностью следует из того, что такие бунты происходили и раньше (в октябре
1916 года) и позже, при Временном правительстве, которое, так же как и царское
правительство, не смогло решить проблему снабжения городов. При длительной и
напряженной войне расстройство товарооборота и голодные бунты были неизбежны –
и эта неизбежность подтверждается также и тем, что правительство, прекрасно
информированное и предвидевшее эти события, так ничего и не смогло сделать, чтобы их предотвратить.
Петроградский бунт 23 февраля не был вызван
непосредственно перенаселением и крестьянским малоземельем, и, в конечном
счете, носил локальный характер. Он мог быть подавлен, как был подавлен Медный
бунт 1662 года. Решающим моментом, как и в 1905 году, была позиция армии –
будут ли солдаты стрелять в народ? И вот здесь проблема Сжатия и крестьянского
малоземелья вставала во весь рост. Армия 1917 года – это были «просто взятые от
сохи мужики», те мужики, которые требовали земли в 1905-м, и многие из которых
после подавления первой революции ненавидели царя так же, как и своих помещиков.
Теперь их мобилизовали в армию, но они не желали умирать в этой непонятной для
них войне; они в массовых масштабах бежали из эшелонов или сдавались в плен. Некоторые
авторы полагают, что солдаты подняли мятеж потому, что не желали идти на фронт,
и действительно, Петроградский Совет впоследствии потребовал не отправлять на
фронт части революционного гарнизона[186]. Солдаты-крестьяне
не желали идти на фронт умирать за эту власть именно потому, что она стала для
них чужой и враждебной, потому что она не давала им землю. В западных странах,
где нации не были расколоты столь острым социальным конфликтом, солдаты не
бросали оружие и не поворачивали его против своего правительства (пока не были
увлечены русским примером). Тот уровень аграрного конфликта, тот уровень
ненависти, о котором говорит предвоенная статистика преступлений, должен был
проявить себя. Он диктовал поведение солдат, которое проявилось при подавлении
бунтов 1916 года – солдаты неоднократно отказывались стрелять в толпу и переходили
на сторону бунтовщиков. Как показывает рис. 5.3, число голодных бунтов
стремительно нарастало, и вместе с тем нарастало число случаев солдатского
неповиновения. О таком развитии событий предупреждал Дурново еще до начала
войны: «Побежденная армия, лишившаяся к
тому же за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в
большей части крестьянским стремлением к земле, окажется слишком
деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка». Еще до начала войны правительство понимало,
что прежде надежная армия теперь, после 1905 года, ненадежна из-за крестьянского стремления к земле. В
итоге, голодный бунт в Петрограде в
феврале 1917 года спровоцировал восстание крестьян, одетых в солдатские шинели,
и они воспользовались случаем, чтобы вновь поставить вопрос о земле. В конечном
счете, заключает П. Гатрелл, мировая война лишь дала возможность укоренившемуся
классовому конфликту проявить себя и трансформироваться в революцию[187].
Как отмечалось выше, революция 1905 года была связана с
процессом вестернизации и с расколом элиты, недовольные фракции которой
вовлекли в борьбу сначала пролетариат, а затем крестьянство; в итоге «революция
вестернизации» переросла в социальную революцию. Элита оставалась расколотой и
в 1917 году, однако ее оппозиционная вестернизированная фракция не желала
революции, избегала союза с народом и фактически не принимала участия в
событиях 23-28 февраля. В начале революции эсеры и меньшевики пренебрежительно
называли вспыхнувшее движение «желудочно-стихийным», не подозревая, насколько
близко это определение неомальтузианской трактовке революции[188]. Действительно,
основным лозунгом рабочих было: «Хлеба!». Но лозунг «Земли и воли!», под
которым восстали солдаты, в конечном счете, тоже означал «Хлеба!» – ведь земля
для крестьянина означала хлеб. Таким образом, в данном случае мы имеем дело с
классическим экосоциальным кризисом, «когда революция производится народом из-за нужды и
недостатка пропитания»[189].
Несколько
лет спустя генерал А. И. Деникин подвел итог событий революции в следующих
словах:
«Главный,
более того, единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства,
который заслонял собой все прочие явления и события – вымученный, выстраданный
веками:
-
Вопрос о земле» (выделено Деникиным – С. Н. )[190].
В.
И. Ленин дважды подчеркнул карандашом эту фразу из книги Деникина.
Главной движущей силой Февральской революции было Сжатие
в народных массах. Согласно теории, понятие Сжатия заключает в себе не только
малоземелье и низкий уровень потребления, но и повышение уровня смертности – в
том числе в результате войн. Таким образом, война
была еще одним фактором Сжатия, намного увеличившим его интенсивность. В
условиях столь взрывоопасной ситуации другой фактор, изучаемый демографически-структурной
теорией, Сжатие в элите, отступил на второй план и почти не проявлял своего
действия. Но при этом значительную роль сыграл третий фактор – финансовый
кризис. Финансовый кризис был вызван войной – но также и невозможностью в
условиях Сжатия возложить на население дополнительные финансовые тяготы. Кризис
привел к нарушению управляемости экономики и, по существу, к коллапсу
государства, следствием чего было нарушение продовольственного снабжения
городов, резко усилившее Сжатие и вызвавшее сначала грандиозный голодный бунт,
а затем – революцию.
Необходимо отметить, что анализ революции 1917 года в
рамках демографически-структурной теории подразумевает, что мы рассматриваем
события в контексте закономерностей традиционного общества (которые изучает эта
теория). Как отмечалось выше, такой подход объясняется тем, что Россия начала
XX века была еще, в основном, доиндустриальным, традиционным обществом, и подавляющее
большинство населения страны составляло крестьянство (см. пункт. 4.4.12).
Выдающийся историк и проницательный политик, П. Н. Милюков, сделал чрезвычайно
глубокий вывод из событий, непосредственным свидетелем которых он являлся. «То,
что поражает в современных событиях постороннего зрителя, – писал Милюков, –
что впервые является для него разгадкой векового молчания «сфинкса», русского
народа, то давно было известно социологу и исследователю русской исторической
эволюции. Ленин и Троцкий для него
возглавляют движение гораздо более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотникову
– к 18-му и 17-му векам нашей истории, – чем к последним словам европейского
анархо-синдикализма»[191].
Характерно, что с этим выводом соглашается и Л. Д.
Троцкий, подчеркивающий, что «если бы аграрный вопрос, как наследие варварства
русской истории, был разрешен буржуазией, русский пролетариат ни в коем случае
не смог бы прийти к власти в 1917 году», что Советы пришли к власти благодаря
«сближению и взаимопроникновению двух факторов совершенно разной исторической
природы: крестьянской войны… и пролетарского восстания…»[192].
К этому мнению в той или иной форме присоединяются
многие российские историки[193]. Так, например, В.
П. Данилов пишет, что в России имела место «крестьянская революция, на фоне (на
основе) которой развертывались все другие социальные и политические революции,
включая Октябрьскую 1917 года»[194]. «И именно на
гребне мощного крестьянского движения большевики сумели взять власть…» –
отмечает В. В. Кабанов[195]. «Вовсе не случайно
две революции в России совершились под знаменем аграрного переворота», –
подчеркивают В. Л. Дьячков, С. А. Есиков, В.В. Канищев и Л. Г. Протасов[196]. П. Булдаков
называет русскую революцию «бунтом традиционализма, неожиданно, но закономерно
облачившегося в тогу новейших социальных доктрин»[197].
Этот подход – акцентирование крестьянского характера
революции – является достаточно традиционным для западной историографии[198]. Он согласуется и с
современными концепциями российской истории этого периода как истории
развивающегося общества, сопоставляющими революцию 1917 года с крестьянскими
революциями XX века, такими, как революции в Мексике, Китае, Вьетнаме, Индонезии,
Алжире, на Кубе[199]. Но хотя роль
крестьянства в этих событиях была огромной, революции XX века, конечно,
отличались от крестьянских войн средневековья – прежде всего наличием новых
черт, связанных с происходившем в развивающихся обществах процессом модернизации[200]. Демографический
фактор работал в этих революциях не в одиночку, как в прошлом, а вместе с
техническим и диффузионным факторами. Ярким проявлением роли этих факторов в
феврале 1917 года было то, что в результате падения самодержавия к власти
пришло вполне вестернизованное Временное правительство.